но только – вот – нн да..
Мир вокруг нас.
Типа – взято из газеты Известия..
70 то ли 69 лет непонятного события – как будто изчез целый поезд в Метро. И ни где-нибудь, а в Москве. Средь бела дня, ближе к вечеру. Ну, прямо на Кольцевой линии, только-только построеной. Метров 50 под землей. Не, все это – конечно, выдумки. Ну или кто – то может на журналиста учился. А может ли? Да и как ? А в принципе ??
А что то вспомнил один разговор, в совсем детстве – и посмотрел на мурашки. Это такое бывает, оказывается. На бабушкиной работе – примерно в те года, в 50-х, одна сотрудница потерялась, не вышла на работу. Три девушки поехали на ВДНХ погулять, ну очень многие ездили в Советское время..
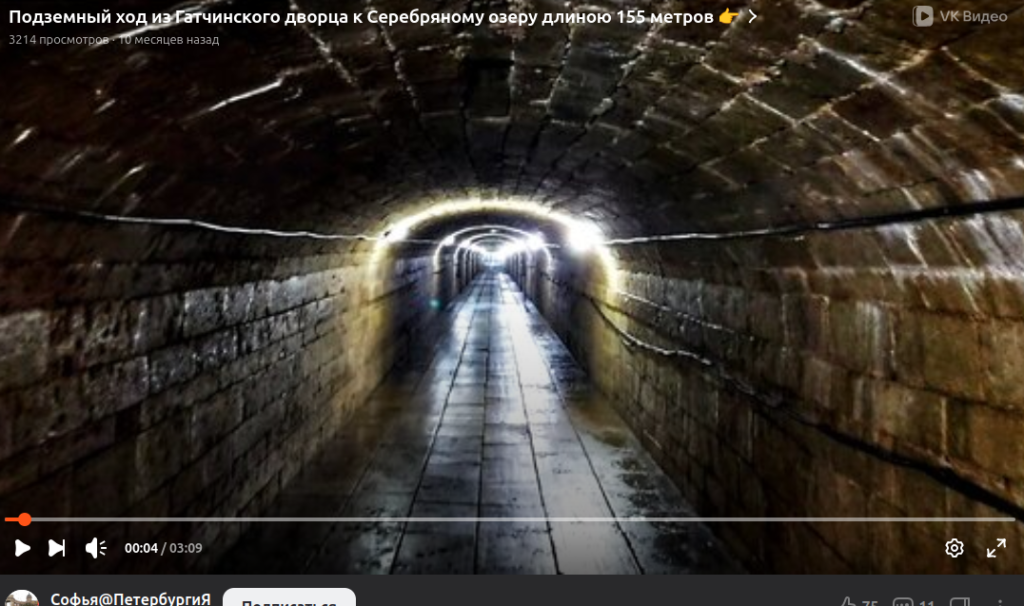
В России много всяких загадок, – вот например – подземка.. Это в Питере, а говорят – в Москве был похожий – проход под речкой от Храма Христа Спасителя к церкви за рекой, на острове. И его сделал чуть ли не Малюта Скуратов..
Говорят – если смотреть на ночное небо – там весь космос – как в изогнутом зеркале – дальняя точечка растягивается на все небо. Это что – неужели мы находимся внутри черной дыры?
Так что у нас ВЕЧЕРЕЕТ.
Добрый вечер!
В созвездии Центавра найдена планета, на которой не наступает ночь

Международная группа исследователей под руководством Кевина Вагнера из университета Аризоны в Тусоне обнаружила в созвездии Центавра планету HD 131399Ab, в системе которой присутствует сразу три звезды. Отчет об открытии опубликовал журнал Science.
В небе над этим небесным телом светят одновременно три солнца, и ночь на ней наступает крайне редко, отмечают планетологи.
Планета вращается вокруг самой яркой из трех звезд, на 80% более массивной, чем Солнце, две другие звезды кружатся вокруг друг друга, и все они движутся вокруг общего центра масс. Такая геометрия тел приводит к тому, что воображаемый наблюдатель на этой планете может видеть сразу до трех солнц на небосводе в зависимости от времени года.
Все три звезды имеют разные температуры, отличаются они и по цвету, потому с планеты может быть виден восход голубоватого, желтоватого и красного светил.
Астрономы уточняют, что это не единственная планета, существующая в системе сразу трех звезд. Однако ее отличает довольно удаленная орбита вокруг ближайшей звезды, такая, что планета может “чувствовать” влияние и остальных двух звезд. “Будь ее орбита чуть более далекой, эти две звезды могли бы оторвать эту планету прочь”, — поясняют ученые.
Расположенная в 320 световых годах от Земли планета HD 131399Ab является газовым гигантом массой в четыре раза больше Юпитера. Возраст оценивается в 16 миллионов лет, что делает эту планету одной из самых молодых среди известных на сегодняшний день. Год на планете длится около 550 земных лет.
О том, что планеты в системах с несколькими звёздами могут существовать не только в фантастических фильмах, известно довольно давно, хотя обнаружить их с помощью современных технологий сложно. Поэтому увидеть небесное тело сразу под тремя “солнцами” специалистам удалось впервые. Открытие было сделано с помощью телескопа VLT в Чили.
Великий космос .. как в каком то рассказе из фантастики, так не – это на самом деле. Картинка только рисованая, из какого то журнала.
Вот – ну вообще крамола ..
Исследователи Кембриджского университета совершили открытие, способное пролить свет на то, как зародилась жизнь на нашей планете. Они обнаружили следы “чужеродной” ДНК – 145 генов, которые могут опровергнуть одну из “священных коров” мировой науки – теорию эволюции Дарвина.
Это последнее открытие очень заинтересовало тех, кто увлечён вопросами происхождения греческой мифологии: в частности это касается истории Прометея, укравшего огонь у богов и вручившего его людям. Этот миф, кстати, лёг в основу блокбастера “Прометей”, в котором говорится о происхождении нашего вида и о том, как сотни тысяч лет назад некий “древний астронавт” явился на Землю, чтобы посеять на ней “семена жизни”.
Наскальные рисунки в храме Сети, на которых изображён вертолёт и другие футуристические летательные аппараты, Абидос, Египет
Вебсайт VigilantCitizen попытался объяснить религиозный контекст теории “древнего астронавта”:
“Сторонники теории “древнего астронавта” указывают на то, что во многих древних религиозных текстах есть упоминания о гостях из космоса. Например, в двух книгах Библии (Книга Бытия и Книга Еноха) говорится о существовании на земле гигантов, называемых исполинами:
«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди». (Книга Бытия, 6:1–4)
И вот теперь учёные обнаружили в человеческом геноме 145 “чужеродных” генов – то есть тех, которые мы НЕ унаследовали от наших предков.
Исследователи говорят, что мы получили важнейшие “чужие” гены от микроорганизмов, присутствовавших в земной среде в древние времена.
Это открытие кардинально меняет общепринятый взгляд на эволюцию, которая целиком и полностью построена на передаче генов по линиям предков, которая продолжается до сих пор.
В результатах исследования, опубликованных в научном журнале GenomeBiology, основное внимание сосредоточено на вопросах горизонтальной передачи генов – то есть между организмами, живущими в одной среде.
это что – неужели были боги, да еще и здесь жили, на Земле??
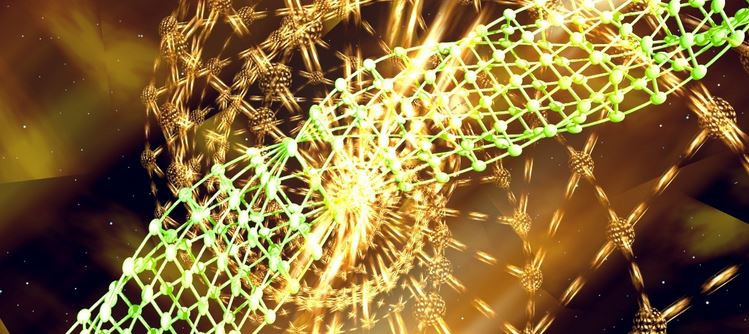
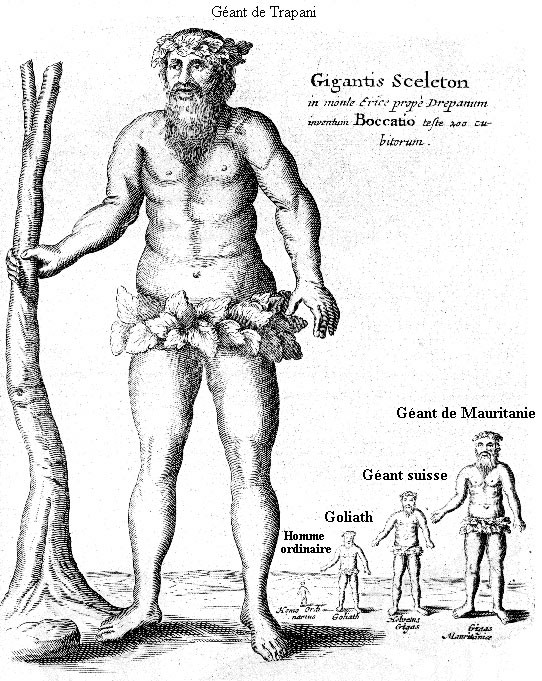

“И НАСА, и Ватикан согласны с тем, что с математической точки зрения для человечества было бы почти невозможно оказаться на той стадии развития, на которой мы находимся сейчас без помощи “со стороны”.
Наскальные рисунки в храме Сети, на которых изображён вертолёт и другие футуристические летательные аппараты, Абидос, Египет
В России будет монархия. Это мм да.. совершенно точно.
Кто «готов» взойти на престол при восстановлении монархии в России
Французский Paris Match
Héloïse Broseta
18/03/2025
Легендарная династия Романовых готовится поприветствовать нового члена: ожидается рождение второго ребенка у Георгия и его жены Виктории [Ребекки Беттарини]. Пол ребенка его мать недавно раскрыла в материале для итальянской прессы.
Российская наследная пара начала 2025 год с заявления о том, что после рождения их сына Александра в 2022 году весной ожидается рождение второго ребенка, что позволило продемонстрировать уже сильно округлившийся живот княгини.
Спустя несколько дней супруга претендента на российский престол дополнительно поделилась откровением в колонке испанского издания «Muhrhoy», в частности, объяснив, что «когда беременна во второй раз, все проще». Однако тогда она не раскрыла пол ребенка, которого ждет, просто заявив: «У нас нет предпочтений. Дети — благодать Божья, и мы будем счастливы, несмотря ни на что.»
Фото: размещено несколько дней назад Ребеккой Беттарини


Москва названа на древнем языке – Мари * и соседей . И задолго до прихода славян и Киевского князя. Вот это уже несколько подтверждений.. Первым поселениям – например, у Коломенского – больше 4000 лет. Есть два значения названия – и оба – правильные, даже – возможно, река и поселок с разными значениями.
Ох – как нас доводили в школе – так двоих, не я один такой.. По- русски говори!! а то что за .. и на каковском – Собака ошишивается .. ну это один из примеров. Москва это просто промозглое место – и болото, чего это сюда пришел Великий князь..
А на картине Шишкина – нарисовано – Утро в сосновом бору.. Ну там все есть. И народность наша есть в летописях, и язык сейчас восстанавливают – правда – больше энтузиасты.. Даже Русь и Русский народ – от наших пошли, ну добрая половина, не шипящие! Причем, и Финно-угры – называть не совсем точно..

Марий Эл
- Озёра
- Реки, речки их истоки
- Родники и источники
- Интересные места
- Отчеты о походах
- Памятники природы и красивые места
- Краеведенье, традиции народа мари, легенды и предания
- Районы и населенные пункты
- Экологическая страничка
Татарстан
- город Казань
- Районы и населенные пункты
- Культурно-исторические места
- Краеведенье – история, традиции, обычаи
- Озера
- Реки
- Родники и источники
- Памятники природы
- Отчеты о походах
- Национальная татарская одежда
- Самые красивые озера Марий Эл
- Самые известные татары
- Город Ярославль
- Река Ока
- Самые красивые усадьбы России
- Сплав по реке Снежная
- Озеро Морской Глаз – одно из чудес республики Марий Эл. Волжский район, Республика Марий Эл
- Река Клязьма
- Марийская национальная одежда
Пещеры Московской области
Posted Втр, 19/05/2020 – 08:42

В пещерах и каменоломнях Московской области добывали известняк для строительства белокаменной Москвы, а значит, разработки велись, начиная с XV-XVI веков, а иногда и раньше.
Начиная с 70-80-ых годов XX века каменоломни облюбовали любители острых ощущений. Сюда приходят компаниями, на несколько часов или даже дней – практически во всех системах пещер есть гроты, где можно расположится на ночлег. При входе в каждое подземелье есть особый журнал, в котором все, кто входит и выходит, должны в обязательном порядке сделать соответствующую запись. Он создан с целью помочь спасательным отрядам в случае обвала располагать точными данными о том, сколько человек сейчас находится в подземелье.
РОДНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
СТАТЬЯ ПРО ГОРОД МОСКВА – ТУТ!
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
ПАМЯТНИКИ ГЕОЛОГИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
ПОЧИТАЕМЫЕ КАМНИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И МЕСТА СИЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
КЛАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
РЕКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТУТ!
Подмосковные каменоломни — подземные полости искусственного происхождения в Московской области, где в старину (XIV—XIX вв.) добывался известняк (реже песчаник) для зданий Москвы и Подмосковья.
Эти пещеры не представляют особого научного интереса и почти не привлекают внимание государственных организаций. Однако они очень популярны среди энтузиастов, для которых посещение пещер является хобби, развлечением, или даже образом жизни. Можно говорить о том, что вокруг пещер образовалась определённая субкультура.
Историко-географический очерк – пещеры Московской области
Основные очаги добычи белого камня располагались в бассейне реки Оки на берегах следующих рек:
1) помимо собственно Оки (юго-восток современного Подмосковья), также на берегах её левого притока Москвы-реки;
2) «Пахорский бассейн» на берегах Пахры и её притоков Десны, Рожайки, Мочи, Жданки, Лубянки — в междуречье Оки и Москвы-реки, которое ныне преимущественно относится к Домодедовскому и Подольскому районам (в старину долину Пахры от Домодедова до Нижнего Мячкова также называли «Каменная сторона»);
3) на берегах Осётра, правого притока Оки.
Возраст систем в среднем насчитывает несколько веков, а наиболее активно выработки велись преимущественно во 2-й половине XIX века.
Несмотря на то, что официальные власти ранее неоднократно пытались закрыть те или иные системы пещер, они практически всегда вновь вскрывались энтузиастами. С советских времён власти не предпринимали ни одной попытки закрытия входов, хотя разговоры об этом ведутся постоянно.
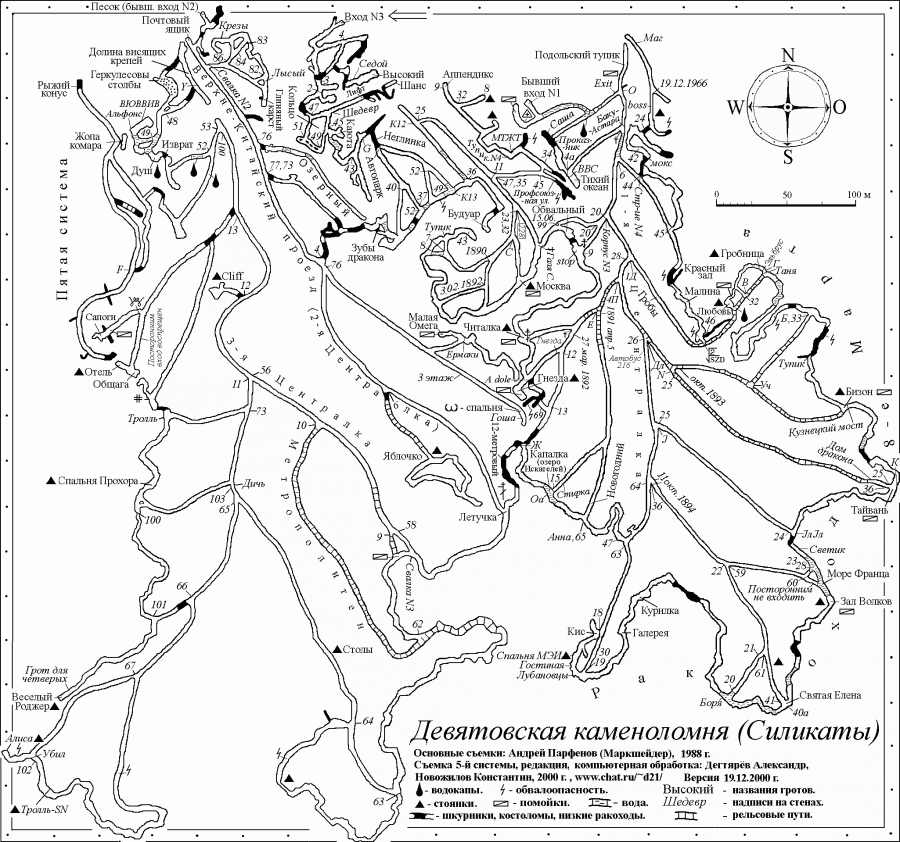
Распределение каменоломен по бассейнам рек
Все исторические каменоломни расположены на реках, по которым, видимо, добытый камень и вывозился к местам строительства — иногда за сотни километров (например, белый камень памятников старины Суздальского края XII века происходит из Мячковских каменоломен на стрелке Пахры и Москвы-реки). Из-за этой логистической привязки разбросанные по Подмосковью выработки естественным образом районируются по рекам:
Москва-река
«Полушкинские каменоломни» (по расположенным неподалёку ж/д-станции и деревне в Одинцовском районе; также «Тучковские» или «Васильевские» каменоломни — по более близким населённым пунктам под названиями Тучково и Васильево в Рузском районе; вход на северном берегу Москвы-реки напротив деревни Григорово);
«Партизанская» (также «Картинская» по посёлку под названием Картино, близ Тучкова).
Пахра с притоками
В Пахорском бассейне сосредоточены наиболее протяжённые из выявленных на данный момент подземных выработок в Московской области:
Сьяны Около деревни Новленское,
в 4 км к востоку от платформы Ленинская Павелецкого направления ~19 км
Камкинская каменоломня (Кисели)
В долине реки Пахры на правом берегу у деревни Киселиха 11,5 км
Силикаты (Девятовская)
3 км к западу от станции Силикатная Курского направления 11,5 км
Никиты (Мартьяновская)
В нескольких сотнях метров к югу от села Никитского, на правом берегу реки Рожайки. ~18,1 км
Володары (система Константиновского оврага) посёлок Володарского, Ленинский район ~5 км
подсистемы пещер:
У этой пятёрки самых протяжённых систем обнаружены следующие подсистемы (либо соседствующие с ними отдельные ветки):
«Солнечная» (от Щапова по левому берегу вниз по течению Лубянки, недалёко от её устья на реке Моче
«Ватутинка» («Фабричная», среднее течение Десны, Троицк, закрыта);
«Алхимовская» (нижнее течение реки Десны, деревня Алхимово);
«Рыбинская» (располагается близ деревни Рыбино, чуть ниже по течению реки Десны от входа в «Силикаты», на противоположном от них, правом берегу);
«Пионерская» («Звёздочка», «Верхненикитская-2», вход к югу от села Никитского, правый берег Рожайки, закрыта);
«Пионерская» («Новленская», восточная окраина Новленского на реке Пахре, закрыта);
«Мещеринская» (левый берег Пахры, у посёлков под названиями Мещерино и Чурилково);
«Чурилковская» (левый берег Пахры, над системой находится посёлок Чурилково, закрыта);
«Глиняная» (левый берег Пахры, примыкает к Чурилковской системе);
«Дугинская» («Юбилейная», левый берег Пахры, закрыта);
«Дикая» («Шмелиная», «Котляково-5», правый берег Пахры, закрыта);
«Жабья» («Жданковская», на реке Жданке);
«Ежевичка» (входит в систему Константиновского оврага);
«Орешная» (входит в систему Курьей, Константиновского оврага);
«Мячковские» (устье Пахры на Москве-реке, срыты);
Перспективные системы
В ряде городов на Оке и её притоках Москве-реке и Осётре сохраняется высокая вероятность открытия в ближайшем будущем следующих исторических подземных выработок:
бассейн реки Ока
Система «Замок» (место впадения Нары в Оку под Серпуховом, существование подтверждается летописями, исследования не проводятся за отсутствием финансирования).
«Коломенские» или «Протопоповские каменоломни» (на месте бывшей деревни Протопопово, ныне микрорайон. Колычёво г. Коломны), где добывался т.н. «коломенский» или «протопоповский камень» для строительства Храма Христа Спасителя.
Подземные полости в Пущине, Озёрах, Ожерелье, Кашире.
бассейн реки Осётр
Весь бассейн Осётра, вероятно, является единой спелестологической провинцией (наиболее известная часть которой — «Гурьевские каменоломни» — обнаружены в верхнем течении реки, в современной Тульской области).
Каменоломни Зарайска.
Старые разработки в карьерах у деревни Курбатово Серебряно-Прудского района.
Разработки у деревни под названием Лишняги (12 км выше по течению реки Полосни от устья на Осётре в Серебряно-Прудском районе).
бассейн Москва-реки
При проведении соответствующих исследований, возможны открытия следующих исторически существовавших систем:
Приблизительное месторасположение исторической каменоломни на берегу Москвы-реки в районе д.34 по Кутузовскому проспекту в Москве. Август 2018 года.
Разработки песчаника в Лыткарино;
Разработки песчаника в Татарове (ныне в черте Москвы);
Даниловские разработки песчаника в Нижних Котлах (ныне в черте Москвы);
Каменоломни в Крылатском (ныне в черте Москвы);
Каменоломни в Хорошёве (ныне в черте Москвы);
Каменоломни в Шелепихе (ныне в черте Москвы);
Каменоломни на Пресне (ныне в черте Москвы);
Каменоломни в Дорогомилове (ныне в черте Москвы);
Каменоломни в Филях (ныне в черте Москвы, ниже порта по течению Москвы-реки, в районе здания «РОССПИРТПРОМа» — Кутузовский пр-т, д.34);
Каменоломни под Воробьёвыми горами (ныне в черте Москвы, близ «Мосфильма»);
Разработки фосфоритов в Коломенском (1920-е годы, ныне в черте Москвы);
Разработки фосфоритов в Чагино (1920-е годы, ныне в черте Москвы).
Основные каменоломни и пещеры Московской области
каменоломня «Володары» («Курья») в Ленинском районе.
Лабиринт «Курья» один из самых посещаемых и изученных. Входит в состав трех сообщающихся между собой каменоломен – Курья в поселке Володарский, Лукоморье и Тавровая. Протяженность пещеры всего 5 километров. «Курья» считается легкопроходимой системой с множеством гротов, некоторые из которых приспособлены для жизни. Глубина залегания системы около 10 метров.
Начало работ по добыче камня в этих пещерах относят к XIV веку – известняк использовали не только для строительства Кремля, церквей, но и для возведения цементных заводов. Рекомендуется для новичков.
Наиболее интересны для посещения гроты Красная площадь, Колесо, в гроте Кит на стене удивительным образом проявилось 2-метровое овальное изображение, напоминающее кита (отсюда и название), тут же на стене – образцы “творчества скульпторов-системщиков конца 2-го тысячелетия”. Другие имеющиеся гроты впечатляют меньше: Нинель, Малая Земля, Музей, Солдат, Деканат, Смерть, Бегемот, Келия, Алиса, Золотая осень, Варяг… Левая часть системы обследована и картирована слабее.
В 1990-х годах “Космопоиск” несколько раз проводил в этой пещере эксперименты по времявосприятию и магниториентированию.
где находится, как добраться:
Проезд до Володарских пещер: От московского метро Домодедовская автобусом N 527 до конечной остановки в п.Володарского; от автобусной остановки спуститься вниз (на юго-восток) к реке Пахра, перейти мост, подняться по дороге вправо вверх (на юго-запад); далее пешком пройти по полю вдоль берега реки вначале на восток, потом в месте сужения поля обогнуть выступ леса, пройти еще около 100 метров вперед-вправо (на северо-восток) и спуститься вниз в овраг. Найти пещеру можно после расспроса местных жителей (хотя непосредственно возле входа никто не живет). Оборудованный вход находится в 25 метрах от берега, его легко заметить по кругам автомобильных шин, укрепляющих стенки входа. В пещерах находиться обязательно с проводником! Соблюдать все меры предосторожности, при входе-выходе из пещеры обязательно отметиться в журнале посещений! Недалеко от пещеры, у села Жуково есть пионерлагерь, поэтому в летнее время необходимо обращать внимание на то, чтобы ни в коем случае не показать случайно или намеренно путь в пещеру детям или подросткам!
каменоломня «Девятовская» («Силикаты»),
находящаяся на берегу Десны, в районе города Подольска.
одна из самых доступных пещер в Подмосковье – Девятовские каменоломни, или «Силикаты», которые находятся на Курском направлении МЖД, рядом со станцией Силикатная, в поселке Девятское. Здесь, как и в Сьянах, когда-то добывали известняк для белокаменного строительства. В период Великой Отечественной войны в каменоломне оборудовали бомбоубежище. Закрыли систему в 90-е годы, но уже в конце 20 века группа энтузиастов вновь ее открыла.
Рассказывают, что в подземных тоннелях можно встретить летучих мышей, найти артефакты прошлых веков, а также преодолеть страх клаустрофобии, так как ходы очень узкие. Эта пещера понравится любителям мистических историй и фильмов ужасов, так как о ней ходит множество легенд, самая известная – о призраке солдата. Во время ВОВ солдат ценой собственной жизни спас из полуразрушенного входа бомбоубежища жителей поселка. Однако под каменной плитой, которая упала на солдата, ничего не обнаружили. Родственники очень долго искали его в пещере, но тело так и не было найдено. На экскурсии посетителям рассказывают, что геологи не раз встречали призрак солдата, от чего пробираться через узкие ходы становится еще сложнее.

Где находится, как добраться:
Любителям экстрима понравится поход в Девятовские каменоломни «Силикаты». Они находятся в Московской области, на берегу Десны, на запад от платформы Силикатная (за одну остановку до г. Подольск) по Курскому направлению.
За свое месторасположение они и получили название «Силикаты». А второе имя – Девятовские – каменоломни получили от наименования поселка Девятского, в котором они и находятся.
ПОДСИСТЕМЫ ПЕЩЕРЫ СИЛИКАТЫ
Отдельные подсистемы
Верховья р. Пахры
Разработка белого камня штольнями начиналась от д. Подосинки. В конце ХIХ в известняк добывали у д. Тереховой и д. Городок. Рядом с каменоломнями находились известково-обжигательные печи. Также подземным способом известняк брали у деревень Дерибрюхово, Раево и ныне несуществующих деревень Пищеры и Манькина гора. Уже в середине XIX в. о них писали как о давно заброшенных.
В настоящее время вход в подземную полость у д. Раево открыт. Полость представляет собой обширный зал без боковых ответвлений, сильно замытый песком.
Ниже по реке, разработка штольнями велась во всех местах выхода известняков в крутых, высоких береговых склонах. От устья р. Десны до д. Добрятино, подземные выработки тянулись непрерывно.
При с. Лемешеве в 70-х — 80-х г.г. ХIX в. находились крупные подземные выработки, принадлежащие купцам Базыкину и Худякову.
С 1934 г. у многих деревень по р. Пахре добыча известняка подземным способом возобновилась.

Долина р. Десны
Верхняя граница разработок проходит ниже г. Троицкого, где находились небольшие ломки, тянущиеся до д. Богородская, принадлежавшей князьям Черкасским. В настоящее время выработка открыта, длина ходов составляет 360 м. Далее подземным способом брали камень у д.д. Лаптево, Мостовская и Алхимово. У двух последних находились небольшие выработки, очевидно, принадлежащие местным крестьянам.
Сейчас у д. Алхимово существует вход в полость, длина которой незначительна, а состояние свода не позволяет производить работы по дальнейшему вскрытию.
Ниже д. Девятово расположены крупные каменоломни, принадлежавшие купцам Бородачеву и Александрову. На сегодняшний день входы в них закрыты, но длина изученной части составляет 11700 м. От Девятово до д. Рыбино по берегу тянулась непрерывная цепь подземных выработок. Напротив д. Рыбино, в овраге, купцом Архиповым разрабатывался белый камень. В данное время подземная выработка вскрыта и имеет протяженность около 2-х км. Далее до д. Ерино левый берег опять представлял непрерывную цепь выработок.
При слиянии р. Десны с Пахрой около с. Дубровицы, принадлежавшего в конце XIX в графу Мамонтову, по течению р. Десны, тянулись обширные подземные выработки. Там же находились выработки, принадлежавшие крестьянину Андрееву.
Долина рек Мочи и Лубянки
Добыча камня производилась в устье р. Моча у одноименной деревни, а также у д. Кудино. Выше, у д. Акишево, находились крупные подземные выработки, принадлежавшие купцу Середину. Также крупные выработки были у с. Ознобишино.
В устье р. Лубянки между бывшим одноименным селом и д. Щапово находились обширные подземные выработки, на что сейчас указывают огромные отвалы известково-обжигательных печей. Длина ходов сохранившейся части каменоломни невелика — около 200 м, но скопление провальных воронок на большой территории говорит о наличии больших продолжений. Подземные разработки тянулись до с. Апександрово.

Пещера Берлюка
В крутом cклоне обрывистого берега р.Вори у д.Авдотьино чернеет небольшой лаз. Фонари выхватывают из тьмы изъеденный временем свод, вглубь уходит прямая галерея. Стены ее выложены кирпичом. В двух местах полукруглые арки обозначают боковые ответвления. Свод необычайно странен – не носит следов обработки. Будто бы в естественной пещере облицевали кирпичам стены, в конце хода, справа, несколько небольших гротов. Видны следы обвалов. В результате обследования установлено, что это естественная пещера образовалась в песчаниках и является единственной в своем роде в Московской области. В настоящее время пещера сильно разрушена. Пласт песчаника, в котором она находится, неоднороден по плотности. Протяженность пещеры 40 метров. Неподалеку находится сохранившийся до наших дней комплекс бывшего Берлюковского монастыря.
ГКС Москва 1967г. Источники: “Исторический очерк Николаевской Берлюковской пустыни”, составленный иеромонахом Нилом в 1875 году и опрос местных жителей:
В 40 верстах северо-восточное Москвы и в 18в от Загорска, на возвышенном и живописном левом берегу р.Вори, впадающей в Клязьму, находится Берлюковская пустынь.
Предание: старец Варлаам пришел сюда около 1606г., и с ним две Старицы -Евдокия и Ульяна, все они пришли из Успенского Пречистенского девичего монастыря после разорения оного поляками. Местность по берегам Вори была в то время дика и малонаселена. Кроме них пришли и другие сестры приверженицы Евдокии (игуменьи) и Ульяны (казначея). Варлаам соорудил деревянную часовню, поставил в нее принесенную старицами древнюю икону Святителя Николая. В первые годы воцарения Михаила был выстроен вместо часовни каменный храм. Место погребения старца неизвестно. Потом появился некто Берлюк, беглый мужик, и стал промышлять разбоем. Одно из его преступлений было раскрыто, и Берлюк был схвачен и отправлен в Москву. Какой-то мальчик-торговец, то ли блинник, то ли калачник сумел приобрести его расположение, и пообещав устроить побег, узнал о сокровищах зарытых в пещере. Молодой человек с братьями, прикинувшись сборщиками лечебник трав, пришли к пещере, ночью выкопали клад и исчезли. Бежать Берлюку не удалось. Второпях кладоискатели обронили множество мелких денег, на утро найденных поселянами.
Пустынь то хирела, то расцветала, но особенного оживления там не наступало. Кроме того, одно время монахи монастыря страдали ересью (в нач. XVIIIв.).
Старец Макарий, овдовев, был отпущен на волю из крепостных и в 1828 году поступил в Берлюковскую пустынь. В 1829 году был пострижен с именем Афанасий, а в 1841 году принял схиму и был назван своим прежним именем – Макарий. В часы, свободные от богослужений, копал пещеру в горе. Почва была железистая, твердая. Землю выносил на руках, не имея необходимого на то орудия. Внутри пещеры он вырыл колодец. Во время настоятельства о.Иосифа (1869-1865) пещерные ходы были расширены и наверху выстроена каменная церковь во имя Иоанна Предтечи, весьма сырая, давящая пещеры, и по сырости и отдаленности от монастыря остающаяся без службы. Старец схимонах Макарий скончался 1 апреля 1847 года.
Далее следует текст автора исторической справки из ГКС.
Кроме предание о Берлюке В.Пронюком получены сведения у старожилов о том, что около трансформаторной будки была еще одна пещера, которая уходила под монастырь и имела протяженность 40-50 метров, далее ходов по было. Били ли они завалены или не существовали совсем – неизвестно. Эта пещера была завалена лет 8-1О назад. (Возможно, что это и есть остатки бывшего хода из бани к Западной башне)
На месте котлована рядом со входом в пещеру находилось одноэтажное кирпичное культовое сооружение с окнами и дверями. В народе это место считалось “нечистым”. 10-12 лет назад сооружение стали разбирать на кирпичи. Когда была разобрана стена, произошел оползень, которой завалил все сооружение. По-видимому, это и была церковь Иоанна Предтечи (над пещерами).
С ведома и разрешения Московской археологической экспедиции были начаты раскопки в пещере и на месте бывшей церкви Иоанна Предтечи. В результате проведенной работы удалось выяснить:
Берлюковский монастырь находился в 10 км северное станции Монино Ярославского направления, В 1.5 км южнее села Громково, на сев. околице дер. Авдотьино. В зданиях монастыря расположен санаторий.
Существовала каменная баня близ р.Вори, в которую был устроен ход из монастыря под западной башней, построенной ок. 1828 года (это из описания Иеромонаха Нила)-прим мое.
Западнее IV башни находится отстойник, от которого коллектор сточных вод уходит к р.Воре.
В настоящее время над пещерой находится кладбище. Одна из могил провалилась в пещеру в конце “Могильного хода”. Рядом со входом в пещеру – котлован прямоугольной формы. Здесь находилась церковь Иоанна Предтечи.
Ход Б и грот Надежда соединялись с церковью. По всей вероятности, Грот Надежда был соединен с алтарной частью.
Обнаруженные в контрольных шурфах остатки керамических глазурованных изнутри труб, по-видимому, служили для дренажа, уровень грунтовых вод в ходу довольно высок.
каменоломня «Камкинская» («Кисели»)
– Домодедовский район, деревня Камкино.
Еще одна система искусственных пещер-каменоломен, на этот раз – из группы Новленских пещер. Здесь тоже добывался известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Соседствует с системой Сьяны (левый берег Пахры). Общая длина ходов около 10-12 километров.
Раньше, когда здесь еще велись работы по добыче камня, тоннели были широкими: по ним спокойно могла перемещаться лошадь с повозкой. Однако, со временем, проходы осели и превратились в узкие штольни, пройти по которым разогнувшись в полный рост можно не везде. А в некоторых местах можно перемещаться только ползком. Тоннели расположены по принципу веера. Внутри пустот температура постоянная в любое время года и составляет от 4-х до 6-ти градусов тепла.
В разное время существовало около 8 входов в систему. В XX веке существовало 3 входа: Штопор, Зашкольный и Главный. В настоящее время открыты последние 2 входа.
Находится «Камкинская» на территории Домодедовского района в 6 км на восток от ж/д станции «Ленинская» Павелецкого направления, под деревней Камкино, на правом берегу реки Пахра.
Рыбинская каменоломня
Открыта летом 1984 года, мало посещаемая и постоянно открываемая из-за Десны. Часть системы из-за нее же замыта и обводнена. Протяженность Рыбинской 2 км.
Проезд как до Силикатов. Рыбинская расположена в 500 метров от Силикатов вниз по течению Десны, близ деревни Рыбино.
Наиболее долгоживущей группой, занимающейся вскрышными работами в Подмосковье, является группа “Летучая Мышь”
. Этапов ее большого пути можно выделить два – “деснинский” и “дугинский”.
Работа по вскрытию подземных каменоломен началась осенью 1982 года закладкой двухметрового шурфа ЛМ-1 на левом берегу р. Десна в районе д. Рыбино. Этой же осенью шурф ЛМ-2 (3 метра) вскрыл небольшой пятиметровый фрагмент каменоломни Салями, а третий шурф (7 метров) вскрыл саму пещеру Салями (менее 100 м длиной).
Летом 1984 года шурфом ЛМ-4 на глубине 7 м вскрыта пещера Рыбинская-1; впоследствии с ней была соединена пещера Салями (суммарная длина полости 2000 м). После периода раскопок в Рыбинской-1, комической истории с полутораметровым шурфом ЛМ-5 (который осенью 1984 полностью заполнился льдом и наледь выперла из него бугром), и двух безуспешных шурфов, копаных В. Булатовым и И. Лихачевым, – летом 1985 года шурфом ЛМ-8 глубиной 1,5 метра рядом с Рыбинской-1 была вскрыта небольшая пещера Лисья-1 (длина 40 м).
В ноябре 1985 года был заложен шурф ЛМ-9, которым на глубине 11,2 метра вскрыта пещера Рыбинская-2 (Собачья) длиной 44 м. Затем через шурф ЛМ-10 вновь была вскрыта каменоломня Лисья-1. Зимой 1986-1987 году группа производила раскопки в районе кладбища выше по течению от предыдущей зоны раскопок: три шурфа (7, 3 и 2 метра глубиной) дали неоднозначные результаты, в оценке которых мнения разошлись; впрочем, полостей так и не открыли. Напоследок, в марте 1987 года, был пройден шурф ЛМ-14 глубиной 5,5 метра на нижней границе кладбищенского блока.
каменоломня Рыбинская-2 (Собачья) вскрыта группой “Летучая Мышь” на глубине 11,2 метра за месяц непрерывной проходки.
Дугинские каменоломни
– Московская область, деревня Колычево.
Одна из самых неисследованных каменоломен. Разработка Дугинских началась, по разным источникам, около 12 века. Обширную сеть штолен использовали для добычи известняка. Протяженность каменоломен составляет, по приблизительным оценкам, около 5500 метров.
По сути, это одна из немногих систем, не утративших своей заповедности. Этим она и интересна. При тщательном осмотре, в ней можно найти множество отголосков старины, времен разработки камня, а также «следы» советского брата. Иногда встречаются настенные рисунки рабочих, которым не менее нескольких сотен лет, или различные советские артефакты.
Но не только предметы отображают дух заповедности, но и гроты. Некоторые из них похожи на комнатки, где могли в свое время оставаться на ночлег люди. Проходы в гроты выложены в виде арки, а внутри небольшой выступ, напоминающий место для ночевки.
Судя по записям в журнале — за последние несколько лет в системе побывало всего около десятка человек.
Как добраться: в шести километрах в стороне от Горок Ленинских ехать необходимо по основной дороге в сторону Яма. После мостика поворачиваете налево к деревне Новлянское. В конце этого населенного пункта нужно перебраться через речку Пахру, там имеется плотина. От плотины следует идти вниз по течению, около трех километров.
Исследования пещеры:
В сезонах 1997-1998 и 1998-1999 годов группой “Летучая Мышь” были продолжены исследования в районе Дугинского оврага (берег р. Пахры в Ленинском районе Московской области).
В октябре-ноябре 1997 года производились раскопки провальной воронки над мощным точильным рвом в лесу. Воронка диаметром более 6 метров и глубиной более 2 метров, судя по размерам растущих в ней деревьев, имела возраст не менее 70 лет. На дне лежал слой мусора толщиной более метра, причем довольно специфического – сверху слой асфальта мощностью до четверти метра, а ниже мусор располагался послойно – слой битой посуды, слой костей, слой обуви… Особенно поразил обильный слой пузырьков из-под зеленой туши.
Пройдя три метра шурфа “Юбилейный” по песчано-глинистому грунту, мы вскрыли известняковую стену провала; дальнейшая проходка (с извлечением отпавших глыб) шла вдоль нее. Полость старинной подземной каменоломни была вскрыта на шестой рабочий день – 30.11.1997, на глубине 6,3 метра. Пещера получила название Юбилейная в честь 20-летнего юбилея группы “Летучая Мышь”.
Юбилейная представляет собой довольно крупную каменоломню с суммой ходов около 2000 метров. Извилистая центральная штольня, длиной более 300 метров, в целом ориентирована меридионально; от нее ответвляются несколько недлинных тупиковых ходов; первый справа проход сбивается с небольшой системой, разработанной из соседнего точильного рва. Влево от централки развивается обширная веерообразная система ходов, выходящих забоями почти к самому Дугинскому оврагу. Здесь отмечено интересное место у древнего, еще времен разработки каменоломни, глиняного конуса, – по-видимому, сбойка с небольшим фрагментом системы, разрабатывавшейся со стороны оврага и впоследствии срытой карьером. Средняя высота пещеры – 1,5 метра, ширина проходов – 1,5-2,0 метра. Пол монолитный, покрыт лишь слоем уплотненной известковой крошки мощностью до 20 см, перекрытой кое-где естественными наносами песка и, реже, глины. Стены образованы в основном кладкой бута. Небольшие крепи применялись систематически, хотя и не многочисленны. Забои ориентированы довольно хаотично, вплоть до обратных. Морфологический тип полости – разветвленная пещера.
Стены и потолок покрыты тонким слоем глины, придающей Юбилейной довольно мрачный вид. Но, по-видимому, пещера не затоплялась, так как сохранность следов камнедобытчиков очень хорошая, что вряд ли бы могло быть при заполнении полости водой. Никаких водопроявлений в пещере Юбилейная нет, даже капежей.
Сохранность выработки хорошая, крупных обвалов немного, и они не слишком велики. С ними часто связаны на поверхности глубокие воронки с крутыми стенками.
Особенностью пещеры является многочисленность песчаных конусов, положение которых совпадает с блюдцеобразными углублениями на поверхности. Это связано с небольшой мощностью (2-2,5 метра, что хорошо видно в прокарстовках) кровли известняка над потолком полости, прорезанной многочисленными карстовыми каналами и трещинами, по которым и поступает сыпучий материал. Первыми работами внутри полости параллельно с рекогносцировкой были раскопки конусов, за которыми была первоначально скрыта значительная часть каменоломни. Затем были предпринята разведочная разборка забутовки, но, в отличие от раскопки конусов, при этом не были вскрыты крупные продолжения.
Археологические находки в пещере Юбилейная небогаты. Обильно представлены угли лучин и подставки для лучин. Был найден почти целый горшок, частично глазурированный, и фрагменты другого горшка, а также непонятное каменное корытце, высеченное из известнякового блока. Хорошо сохранились следы полозьев волокуш на полу. Также были найдены кожаная обувная подметка и оригинальная находка – шмат грязи с подошвы камнеразработчика. На стенах имеются пометки рабочих, систему знаков которых нам так и не удалось понять. В одном из ходов на стене имеются даты 1840-50 годов. Создается впечатление, что рабочие были неграмотны, а даты писали их дети. Следует отметить, что каменоломня Юбилейная отмечена на военной карте 1852 года, что согласуется с надписанными датами.
Никаких следов пребывания в полости людей после разработчиков нами не найдено.
В октябре-ноябре 1998 года раскопки велись на разделе двух рукавов Дугинского оврага, где имеются хорошо сохранившиеся точильные рвы. Для раскопа была выбрана большая, но неглубокая воронка над точильным рвом. В связи со сложной конфигурацией рельефа нам не удавалось достаточно точно определить предполагаемое положение полости, даже с применением биолокации, поэтому шурф был заложен большим сечением, ~2х1,5 м, трапециевидный в сечении, и книзу не сужался, а наоборот, расширялся. Зрелище он представлял собой жутковатое, навевая мысли о чертях и прочей нечисти. Шурф получил название “Колючка”, в связи с обилием старой колючей проволоки в окружающем лесу. (По-видимому, разработка карьеров в низовьях Дугинского оврага велась силами заключенных.)
Шурф “Колючка” был целиком пройден в глине, известняк до самого дна почти не встречался. Проходка давалась большими трудами, чему было причиной огромный объем вынутого грунта и морозная погода, не способствующая копанию.
Глубина шурфа в итоге составила 7 метров.
Полость каменоломни была вскрыта 20.12.1998. Она оказалась почти до потолка замыта песком и глиной. Песок поступал из конуса левее входа, глина (оказавшаяся, кстати, высокого гончарного качества) – правее. Была предпринята попытка раскопать наносы. Прямо от входа удалось достичь забоя в 10 метрах, ход вправо привел к соседнему точильному рву, где окончился завалом (рис. 2). Длина полости – 16 метров.
По-видимому, здесь имела место разработка неглубокими сообщающимися карманами. В связи с видимой бесперспективностью и большим объемом раскопок, требуемым для расчистки полости, работы с этим шурфом были прекращены. Прижилось название пещеры Колючка (Дугинская-3).
В январе 1999 года была повторно вскрыта пещера Юбилейная. В течении января-февраля в ней производились попытки найти соединение с каменоломнями, расположенными правее входа. В результате раскопок длина пещеры была увеличена на сто метров: были вскрыты новое ответвление на централке и почти полностью забутованный колонный зал в Правой системе, но искомая сбойка не была найдена.
Пещера Юбилейная – 2
Осенью 1999 года группой “Летучая Мышь” были продолжены исследования в районе Дугинского оврага (берег р. Пахры в Ленинском районе Московской области).
Внимательно изучив местность, мы пришли к выводу, что следующий после входа в пещеру Юбилейная (по течению Пахры) ров не точильный, а провальный, то есть представляет собой след обрушившейся штольни. Этот ров оказался не прямолинейным, а зигзагообразным, что указывало на наличие развилок. На одном из углов был заложен шурф. Прогнозировалось вскрыть необрушившийся боковой штрек длиной 15-20 метров, из которого можно будет заложить раскопы в сторону других полостей каменоломни.
В течение октября – ноября производились раскопки шурфа, названного “Юбилейный-2” (ЛМ-23). Грунт поднимали поначалу преимущественно песчанистый, а с глубины 2,5 метра пошел глыбовый навал. По ряду признаков (копоть, обработанные камни) его можно было определить как упавший свод выработки. В конце ноября глубина шурфа достигла 5 метров. Вскрытие пещеры произошло около 12.00 5 декабря 1999 года, при довольно забавных обстоятельствах. При очередной зачистке дна шурфа был вскрыт монолитный известняк (пол выработки). Начали разбирать стену – и сразу открыли полость. Пожалуй, впервые вскрытый нами вход позволял войти, а не только вползти.
Найденный штрек имеет небольшие ответвления и заметно переработан обрушением, хотя единственный крупный навал находится в его конце. Разобрав завал, мы проникли в следующий участок полости, представляющий собой систему забоев, от которой вдоль реки отходил еще один штрек, окончившийся очередным завалом.
При дальнейших работах мы и второй завал форсировали, проникнув в небольшую штоленку с засыпанным входом, откуда была расчищена забутованная сбойка с системой разветвленных ходов, пройденной из следующего крупного точильного рва. Состояние потолков здесь крайне плохое, отчего район получил название Система Кошмаров, а ведущая в нее сбойка – Последний Путь. На этом дальнейшее продвижение вдоль реки вниз пришлось завершить, так как перспективных мест для дальнейших раскопок практически не оказалось, а те, что были, пугали своей обвалоопасностью. В связи с этим дальнейшие раскопки в этом направлении были приостановлены, а Последний Путь заложен, чтобы препятствовать проникновению за него местной детворы.
Параллельно велись работы по соединению Юбилейной-2 с Юбилейной-1. Несмотря на то, что расстояние между ними составляет, по нашим подсчетам, первые метры, повсюду при разборке бута был встречен монолит, вдоль которого было пройдено около 15 метров. К сожалению, эта трудоемкая работа не вызывала энтузиазма в группе, поэтому не была доведена до конца; искомое соединение не было вскрыто, и само его существование ныне представляется весьма сомнительным.
Общая длина вскрытых выработок составило около 400 метров (см. Рис. 1).
В целом пещера Юбилейная-2 выглядит старше, чем Юбилейная-1, и сохранилась хуже. Никаких археологических находок здесь не было сделано, за исключением нечеткого знака на стене, и некрупных костей невыясненного происхождения на забутовке в Системе Кошмаров. Возможно, все годное к использованию в свое время было перенесено камнеразработчиками в Юбилейную-1. Нет никаких следов пребывания в полости людей, посещавших ее после разработчиков.
Несмотря на видимую ненадежность кровли, в Юбилейной-2 нет ни песчаных конусов, ни капежей.
Вход в Юбилейную-2 просуществовал довольно долго – до осени 2001 года, когда незакрепленный шурф наконец обрушился.
После непродолжительной прогулки от какого-то шоссе мы оказались в лесу у некой дырки. И дырка эта вела не в сторону, а вертикально вниз. И даже не дырка, а колодец метров эдак в семь, поскольку стены его были из бревен. Там внизу нас ждало Большое Потрясение Три. Самое большое и поглощающее. Благодаря Долотову мы попали в Дугинские каменоломни.
По началу, когда все собрались у журнала, уже чувствовалось что-то необычное. Забутовка в каменоломнях вещь обычная, но встречающаяся не на каждом шагу, и поэтому причисляется к одной из достопримечательностей. Здесь же все было в забутовке. Как раз достопримечательностью здесь можно считать места с отсутствием забутовки.
Долотов: Для Подмосковья такой тип разработки как раз обычен, а вот дыры без бута, вроде Никит – редкое исключение.
Дело же все в том, что когда выбирался камень, чтобы штреки по ширине не доходили до опасной величины, ненужную породу использовали для “поддержания” потолка. Таким образом, выборка камня была более полной, чем другими методами и создается впечатление, что потолок просто лежит на забутовке. Технология трудоемкая, но, как видно, на живучесть каменоломен влияет положительно. Помимо внешнего вида штреков интересна топология этой пещеры – елочкой с замыканием концов (потому и Дугинская).
Долотов: Название на самом деле происходит от названия окружающей местности. А конфигурация – две смыкающиеся концами елочки.
Обычно, когда идешь по новой пещере или новой части известной, в голове самопроизвольно рисуется примерная схема (если, конечно, быть в состоянии запоминания). Только не надо особенно привлекать к этому разум, а то собьется внутренний компас. В Дугинской, когда Долотов нас повел по лабиринтам штреков, компас у меня сбился сразу. Так что для меня это было новостью, что место, куда мы пришли, находится недалеко от входа, просто мы сделали немаленький крюк.
пещеры Сьяны в деревне Новленское Московская области.
Экскурсии в так называемые подмосковные пещеры – бывшие каменоломни, гроты или искусственные подземные тоннели – организуют различные туристические клубы и отдельные энтузиасты.
Нужно помнить, что посещение таких мест довольно опасно, поэтому нужно иметь с собой средства защиты, фонарь и карту.
Одни из самых известных пещер московского региона – Сьяны.
Это самая крупная система подземелий в Московской области и одна из крупнейших в России. Ее протяженность составляет 18 850 метров.

Где находится, как добраться:
Находятся пещеры в районе станции Ленинская Павелецкого направления МЖД в Домодедовском районе.
От Москвы ехать недалеко, от МКАД километров 20 на машине. Также, если вы планируете немного приобщиться к особой Сьяновской атмосфере и не сможете сесть за руль, можно доехать на автобусе 439 или электричке до пл. Ленинская.
Машину можно запарковать перед шлагбаумом на въезде на плотину через Пахру, и дальше метров 700 пешком (синее), либо объехав с севера и через деревню Старосъяново практически ко входу в пещеры. Там стояли машины, но как точно проехать, не знаю.
Несколько веков назад именно здесь добывали известняк для строительства Москвы. Когда точно возникла эта система, неизвестно, предположительно в XVII веке, а наиболее активная разработка велась во второй половине XIX века. В начале прошлого века выработки еще велись, но полностью прекратились к 1917 году. В 60-е годы Сьяны стали популярны среди спелестологов (специалистов, изучающих заброшенные подземные сооружения), а в 70-е годы власти засыпали все входы в систему.
Любители экстремальных развлечений вновь раскопали вход в пещеры в 1988 году. Отреставрировали пещеру только в 2007 году – укрепили ход шпалами и стальными листами. На различных форумах отмечают, что до сих пор ведутся раскопки новых ходов и лазов, засыпанных еще во время разработки.
Бывалые экстремалы советуют посещать пещеру в выходные дни. В уикенд здесь можно встретить геологов, которые обучать навыками ориентирования под землей, а если заблудитесь, помогут выйти.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР
Возникновение системы датируется не позднее XVII века, а наиболее активная разработка велась во второй половине XIX века. В начале XX века выработки велись лишь отдельными крестьянами и полностью прекратились к 1917 году. В 1960-е годы стали популярным местом в среде спелестологов, но в 1974 году властями были засыпаны все входы в систему. После 14 лет консервации, 3 июня 1988 года один из входов был вновь вскрыт энтузиастами. В 2007 году вход был капитально отремонтирован силами обитателей Сьян — вертикальная часть выложена бетонными кольцами, приварена стальная лестница. Позже была отреставрирована и горизонтальная часть — ход укреплён шпалами, обшитыми вагонкой и стальными листами.
По мнению историка архитектуры С. В. Заграевского, Сьяновская система, равно как и другие известные крупные старинные системы, теоретически может включать в себя разработки времен Древней Руси.
Добыча белого камня
Подземным способом известняк разрабатывался в Подмосковье начиная с первой половины XIII века. Самыми давними и известными российскими каменоломнями являются Мячковские карьеры, которые были наделены с XV века статусом «государева каменного дела». Со временем, по примеру Мячкова, известняк стали добывать во многих других подмосковных местах, в том числе и в Сьянах.
Работы в штольнях вели преимущественно зимой, когда опасность завалов была минимальной, и когда местные крестьяне были свободны от полевых работ. Начинались подземные разработки с рытья ям до слоя известняка. Затем по слою пробивали, одновременно ведя добычу камня, горизонтальные выработки, называемые штольнями. Ширина их в забое составляла 7-8 м, а высота достигала 2 м. Добытые блоки вытаскивались на поверхность, а отходы плотно укладывали по бокам выработки. В центре штольни оставлялся проход шириной не менее 1,5 м, что позволяло транспортировать блоки довольно крупных размеров. Штольни не крепили, что удешевляло разработку и давало возможность делать сложноветвящиеся выработки.
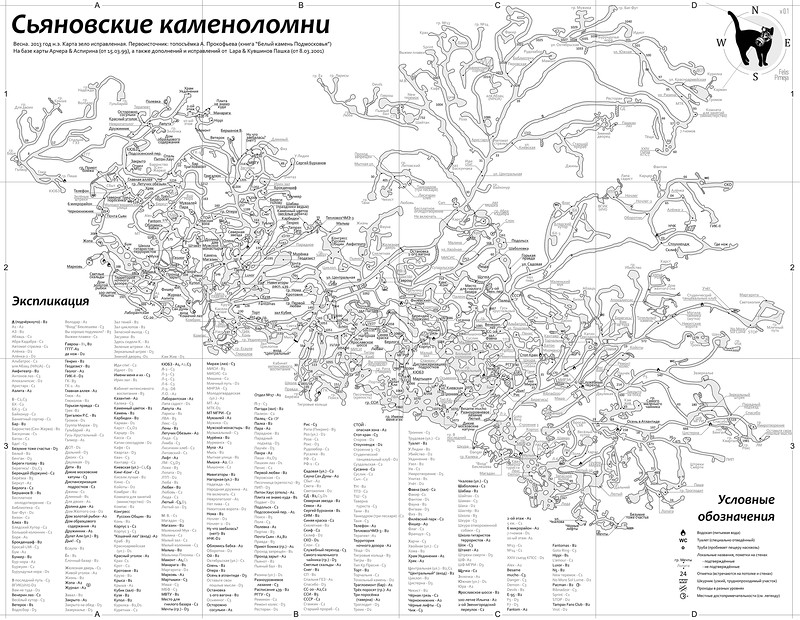
Характеристики
Размеры и расположение
Единственный открытый вход в Сьяновские каменоломни, под названием «Кошачий лаз», находится между деревней Старосъяново и рекой Пахрой, на её левом берегу, на территории городского округа Домодедово, в 12 км на юго-восток от МКАД. Согласно картам, составленным спелестологами, система ходов ветвится в основном на восток, северо-восток и немного на север и северо-запад от входа «Кошачий лаз». Таким образом, система размещена на левом берегу реки Пахры. Практически на всех известных картах изображено ещё 2 входа: Вход Центральный и Вход Беклешова (оба — в направлении на юго-восток от входа Кошачий лаз). Но оба эти входа засыпаны и до сих пор не были вскрыты.
По данным топографической съёмки, проводившейся в 1989—1993 годах А. Парфеновым и последующим досьёмкам, проводившимся в 2000-х годах, общая протяжённость известных штреков составляет около 19 км, что делает Сьяны самой крупной системой Московской области и 5-й по протяжённости в России. Раскопки новых ходов и лазов, засыпанных ещё во время разработки, продолжаются, и после новых измерений протяжённость со временем корректируется в большую сторону.
Высота тоннелей Сьяновской системы колеблется в пределах от 0,4 до 3,5 метров, глубина заложения — 25-30 метров.
Микроклимат
Температура внутри пещер составляет 7-10 °C, относительная влажность — около 80 %. Данные показатели являются постоянными и не меняются в зависимости от погоды или времени года. Радиационный фон не превышает нормы.
Внутренняя жизнь
Сьяновские каменоломни являются наиболее популярной из всех подмосковных систем, и могут считаться полноценным туристическим объектом. Сотни любителей проводят там время на выходных. Некоторые энтузиасты проводят под землёй многие дни и даже недели. Больше всего Сьяны посещают зимой и летом; осенью и весной — меньше, из-за высокой влажности. В Сьянах выработалась своя, особая, внутренняя жизнь. Спелеологами и любителями были созданы подробные карты ходов и «достопримечательностей» Сьян.
Многим тоннелям, комнатам и разным объектам даны оригинальные названия. Как правило они соответствуют различным знакам, рисункам, предметам и надписям на стенах пещер, оставленных там, чтобы лучше ориентироваться. Кроме обозначений, энтузиасты принесли туда предметы, необходимые там для обустройства долгого пребывания человека внутри. Например, различные ёмкости для сбора воды установили в местах, где она постоянно просачивается внутрь и капает с потолка, их также называют «водокапы». В просторных гротах установили столы и стулья — для отдыха и приёма пищи, а также разровняли места под спальни. Иногда в Сьянах устраивают совместные мероприятия, дискотеки и рок-концерты, для чего внутрь заносят звуковую аппаратуру.
Васильевские (Тучковские, Полушкинские) каменоломни
Тучковские, видимо потому, что Тучково ближайший к ним крупный Подмосковный город , а Полушкинские потому, что Полушкино ближайшая железнодорожная платформа. Но исторически и юридически их следует называть Васильевские каменоломни: находятся каменоломни на землях, приписанных селу и «добро» на добычу камня дал в свое время владелец села Васильевское.
История
Указом Императора Александра I в 1816 году был утвержден первый проект Храма Христа Спасителя в ознаменование победы над Наполеоном. Автором проекта был архитектор Витберг. Планировалось возвести Храм на Воробьевых горах, и в 1817 году произошла его закладка.
Витберг был в приятельских отношениях с помещиком А.Яковлевым, владевшим в то время селом Васильевское. Узнав, что в окрестностях села есть выходы практически на поверхность высококачественных мраморовидных известняков, Витберг попросил Яковлева разрешить их разработку для строительства Храма. Согласие было получено.
Планировалось добытый камень сплавлять на баржах к месту строительства Храма по Москве реке.
Потом начались неприятности.
С самого начала отношение к проекту было не однозначное. Дело в том, что в то время в высших слоях российского общества вошли в моду идеи масонства и масонская символика в проекте была очень широко использована. Кроме того, проект отражал увлечение автора немецким философским мистицизмом. То есть, сама идея силы русского духа, во славу которого и возводился храм, выхолащивалась.
История говорит о том, что при отправке первой партии добытых известняковых плит, баржи, на которые они были погружены, затонули, едва отчалив от каменоломен.
Существует мнение, что без диверсии здесь не обошлось. А одна из местных легенд повествует о том, это стало Божьей карой за попрание православной идеи, о чем свидетельствует место кораблекрушения: непосредственно напротив сельской Воскресенской церкви. И два островка на Москве реке в черте села и есть остатки затонувших барж.
После этих событий добыча камня прекратилась.
В 1826 году прекратилось и строительство Храма: комиссия по строительству обнаружила ряд злоупотреблений, растрат, за что руководитель работ А.Витберг был осужден и сослан в Вятку.
Вот такой исторический пассаж связан с этим местом.
Сейчас карьеры каменоломен активно используют туристы-горники и скалолазы для тренировок.
Надо сказать, что каменоломни постепенно затягиваются грунтом и выглядят уже не так величественно, как лет двадцать назад, когда я здесь был первый раз.
В этом году я решил наведаться сюда весной, когда буйная растительность еще не скрывает дикий камень и несвойственные для Подмосковья скалы предстают во всей своеобразной красоте. И не прогадал: обнаружил два новых (неизвестных мне ранее) карьера, остатки инженерных сооружений.
Известняковые каменоломни вдоль северного берега Москвы-реки между Сонино и Васильевским, знаменитым своей усадьбой с замком.
Каменоломни открытого типа. Протягиваются вдоль русла Москвы-реки.
Тренируются альпинисты.
В начале века здесь добывали известняк для Белокаменной. Сейчас каменоломни представляют из себя ряд цирков с отвесными склонами небольшой крутизны. Их сложность различна: от 2-3 категории трудности до самой сложной 6. Это, правда, очень короткая трасса (около 7 метров), но самая сложная в Подмосковье. В ряде карьеров весной и в конце зимы возникают небольшие ледовые стенки. Самая большая – около 3 метров высотой и метров 7-10 шириной. Есть еще несколько, но они короче и меньшей крутизны (45°-70°).
Здесь много мест под палатки, но очень мало дров. Лучше пользоваться примусами. Добираться можно от станций Полушкино и далее до моста рядом с деревней Васильевское. Или от Тучково. От которого можно проехать на автобусе (на Колюбакино) до остановки “Поречье”.
каменоломне «Никиты» («Мартьяновская») в селе Никитское
Точной даты образования этой каменоломни никто не знает, но многие геологи и историки считают, что до 1870 года никаких каменоломен близ села Никитское не существовало. К концу 19 века была образована часть подземной системы, именуемая «Ближней системой». А в начале 20 века под руководством Мартьянова и лучших немецких горных инженеров рабочие выбили в холме три четверти Никитской Системы.
Никитские каменоломни (Никиты) — большая система пещер общей протяженностью более 250 км. В единую систему Никитских пещер входят: собственно, Никиты (включая 100-метровый колодец им. Шагала, зал железных сталагнатов и 50-километровый лабиринт «Сетка»), системы ЕБазар (более 150 Км), Мокрые Галереи (80 Км), небольшие пещеры Ежевичка, Ежовая, Куриная и Дохломышиная, и еще несколько менее значительных частей.
В настоящее время пещера оборудована для проведения организованных экскурсий. Часть пещер является аномальной зоной и закрыта для посещения туристами.
Внимание! Никиты категорически не рекомендуются для посещения новичками, так как в общем доступе до сих пор нет карт подземелья, система пещер очень большая, некоторые места обвалоопасны. Каменные коридоры гораздо уже, чем, например, в Сьянах.
Как добраться: от Павелецкого вокзала до Домодедово, затем на автобусе до Никитского. От автобусной остановки на север до моста, перейдите его и следуйте вверх по течению реки до родников, затем поднимитесь до центрального входа в каменоломню.
пещера Орешная
Орехи, Орешная, или Орехи Ясные – система напротив Курьей, на противоположном склоне оврага. Вход через 4-метровый шурф. Длина больше километра. Очень милая, но уже загаженная система веерного типа. Есть стоянки, водокап и даже свое подобие сьяновского «Аристарха». Довольно интересен и обилен погребенный карст. Карстовые щели и колодцы, заполненные глиной юрского или мелового времени (в глине встречаются брахиоподы).
Рядом со входом полузасыпанный шурф. Это вход в Гнилые Орехи. Системка в несколько десятков метров.
Проезд как до Курьих пещер.
Вход расположен напротив Курьи в метрах сто на северо-запад, на противоположной стороне оврага.
Гурьевские, или Бякские каменоломни – Московская область, поселок Метростроевский.
Гурьевские каменоломни — это три огромные системы пещер, не изученные до сих пор до конца. Находятся каменоломни на берегах реки Осётр. Добыча известняка на правом берегу реки производилась приблизительно в XV-XVI веках каторжниками. Известняк был плохого качества, и поэтому через сто лет разработку прекратили. C XVI века разработки перекинулись на левый берег, немного выше по течению реки.
Вот там-то камень был уже значительно лучше. Есть мнение, что там работали даже дети. Работы проводились вплоть до конца 19 — начала 20 века. Образовавшуюся пещеру завалили в 1946 году. Откопал вход в каменоломню турист-спелеолог «Крот» в 1972 году. Имя пещере дали производное от деревни Бяково, под которой находится вход – Бяковские каменоломни, ну или просто Бяки.
Суммарная протяженность всех ходов пещеры, по мнению спелеологов, приближается к 100 км. Карта подземелья составляется с 1994 года и на данный момент все еще не закончена. В системе огромное количество гротов, ходов, лазов и тупиков, есть даже подземные озера глубиной до 2 метров.
Добираться до Бяковских каменоломен можно на электричке: нужно доехать до поселка Метростроевский или платформы 168-й км ветки Ожерелье – Узловая. Пройти примерно 1 км от поселка, как ориентир — прямо напротив входа на берегу реки стоит трансформаторная подстанция, к которой примыкает ЛЭП.
Каменоломня Партизанская
Каменоломня расположена в Московской области, на правом берегу реки Москвы в районе посёлка Тучково (возле бывшей деревни Картино). Система имеет протяжённость по разным данным от 900м до 2-х и более км.
Ходы довольно широкие и высокие, вследствие чего высока обвалоопасность.
В каменоломни было несколько входов, ни один из них не был окультурен.
Из-за этого все они заплыли. Пару лет назад один из входов был вскрыт, но не укреплён.
Поэтому раз в год минимум он заплывает. Но энтузиастов это не останавливает.
Мозжинский овраг
Фед. округ: Центральный
Московская область, Одинцовский район
Категория: Памятник природы
Геологический профиль: Геоморфологический
Общая площадь: 39,39 га
Год создания: 2009
Статус: Региональное значение
Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. № 106/5
Перечень основных объектов охраны: уникальная эрозионная форма рельефа
Краткое описание геологического памятника природы Мозжинский овраг:
Мозжинский овраг расположен на абсолютных высотах от 133 м до 184 м. На высоте 10-12 м над поверхностью поймы на наиболее крутых участках склона встречаются осыпные стенки высотой до 1,5 м, нависающие над ними обрывы, обвально-осыпные тела, лежащие ниже по склону. Мозжинский овраг извилистый, имеет несколько коротких отрогов. В северной части памятника природы врез оврага составляет 4-6 м, вблизи устья – превышает 30 м, крутизна бортов местами достигает 45°. В приустьевой части имеются обвально-осыпные и оползневые тела. Овраг формирует конус выноса, наложенный на пойму. В овраге есть карстовые провалы продольной формы с боковыми отнорами, в южной части оврага есть небольшие гроты.
По днищу Мозжинского оврага протекает ручей Мозжинка, имеющий характер постоянного водотока только в приустьевой части оврага. У подножья террасного склона в Мозжинском овраге имеются места выхода грунтовых вод.
Дочетвертичные отложения Мозжинского оврага представлены юрскими глинами, подстилаемыми известняками карбона. Выходы глин на поверхность имеются в приустьевой части Мозжинского оврага.
Четвертичные отложения представлены водноледниковыми и древнеаллювиальными песками, супесями, суглинками. К современным отложениям относятся аллювий пойм, пролювий конуса выноса, коллювий обвально-осыпных тел.
Географическое положение:
г. Звенигород, к западу от поселка Мозжинка
Широта: 55.733 Долгота: 36.867 (градусы)
Пионерская (новленская) каменоломня
1) Каменоломня “Пионерская”. По общедоступной инфе – находится на изгибе реки, почти напротив Киселей. Но также, есть информация, что она находится у школы. Местный житель указал мне место, где была школа, сельский клуб, и 2 входа в каменоломню, во вскрытии одного из которых он участвовал в детстве (порядка 50 лет назад).
Получаем 2 варианта:
1.1) Мне указали на вход в другую полость (если карта в ежегоднике РОСИ правильно привязана к кртам систем, то мы имеем вход в Новленскую систему
2) Ниже по реке, где, как многие укзывают, берег выполаживается, в 2 местах есть следы прососов (или у меня галлюцинации, или это очень хитрая эррозия почв). Могу сфоткать эти места, благо буду рядом завтра, но нет ли у кого идей по этому поводу? Шурфов я там не заметил, да и место дествительно, довольно невысоко над водой.
3) На поле(да и в лесу) есть несколько заложенных кем-то шурфов и следы прочей спелеодеятельности (почему-то кажется, что это деятельность ЛМ, хотя могу ошибаться). Подскажите, у кого можно узнать про результтивность/смысл раскопок в этой местности?
Бывший Центральный вход уверенно привязывается к своей откатной воронке. Если я правильно понял, это воронка справа от дороги, идущей вниз по склону из деревни. Как-то, прогуливаясь по берегу Пахры, забрел в деревню Новленская. Около одного из домов работал дед, пытаясь вкопать в землю старый газовый балон, вспоминая матом белокаменную щебенку. Я подошел к нему, и спросил, что знает ли он что-нибудь про каменоломни. Поведал мне он историю о том, что в детстве они лазили по каменоломням. Входы располагались прямо на участках, некоторые из них мне показал. В настоящее время места представляют собой отчетливые точильные рвы. Но всклыть их сейчас уже не получиться, не позволят хозяевы.
Один из входов располагается прямо на обочине дороги, сейчас там помойка. Я попросил его описать эти пещеры, представляли они собой длинные ходы, имеющие одно-два ответвления. Подобных входов в пещеры было неколько, причем они не соединялись. После войны все входы взорвали и засыпали.
В 1964 году Прокофьевым И.Ю. была выделена группа Новлинских пещер-каменоломен. В нее вошли известные к тому времени Сьяновская, Пионерская (Новленская), Дугнинские и Киселихинская каменоломни. Вопрос о карстовом происхождении полостей и жилищах в них троглодитов уже, естественно, не затрагивался. Была нарисована схема каменоломни Пионерская и составлено ее краткое описание. Суммарная длина ходов оценивалась в 200 м. О происхождении названия “Пионерская” выяснить ничего не удалось, хотя ее уже тогда так называли местные жители.
В 1967 году вышел в свет Географический словарь Московской области “Все Подмосковье”. Данные по “Пионерской пещере” для него были предоставлены Прокофьевым: “…Подземная полость имеет в плане вид двух лучей с небольшими разветвлениями на концах”. В 1978 году Группой Краеведов – Спелеологов (рук. Прокофьев И.Ю.) предпринималась попытка провести топосьемку полости. Составив план северо-западного участка (150 метров), группа приостановила работы.
Как добраться (как доехать, схема проезда, координаты), где находится:
Каменоломня “Пионерская” расположена рядом с каменоломней “Сьяны”
Вход в каменоломню находился на дне крупной котловины, у здания бывшей школы и представлял собой узкий вертикальный лаз. Привходовой колодец постоянно использовался местными жителями в качестве помойки и неоднократно закрывался оползнями. Последний раз был расчищен спелеотуристами в 1978 году, а в 1980 закрылся окончательно.
Участок «Карстовый»
Фед. округ: Центральный
Московская область, Пущино город
Категория: Памятник природы
Геологический профиль: Геоморфологический
Общая площадь: 9 га
Год создания: 1986
Статус: Региональное значение
Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. N 106/5
Перечень основных объектов охраны: разнообразие форм рельефа
Краткое описание геологического памятника природы Участок «Карстовый»:
Участок «Карстовый» представляет собой живописную территорию с выходами известняка и карстовыми провалами, многочисленными родниками. Часть карстовых провалов образуют поноры и пещеры небольшого размера в склонах известняка и песчаника.
Географическое положение:
северо-западная оконечность водораздельной поверхности (так называемого пущинского холма), выходя северной границей на берег Оки, с востока примыкает к Пущинской усадьбе
Широта: 54.841 Долгота: 37.62 (градусы)
Ватутинские пещеры (Ватутинки)
Недалеко от Троицка есть небольшая системка. Был там пару раз. В правой (от входа) части системы и за обвальным конусом некоторое время назад налицо были попытки покопать.
Системка находится между Троицком и Ватутинками под селом Богородское…махонькая до безобразия…но аборигены говаривали что перспектив в ней много…когда-то мол большой была… сейчас же там все завалило и обойти ее можно менее чем за пол часа, там есть ход под церковь но он завалин наглухо капать пробовали ну пока без результата.если пройти по берегу там есть полости.
насколько знаю там было 2 норки…одну засыпали чем-то чтоб дети не лазили а вторая осталась
Вторая, я так понял именно Ватутинки. Вход сразу слева от моста. Прям около воды. Именно её я и имел ввиду. Дальше вдоль реки видны следы разработок, но конкретной полости не видно.
именно слева от моста было 2 норки…осталась одна…
Пару недель назад с товарищем копали в этой каменоломне, обошли очень большой глиняный конус с 2-х сторон (сначала через верх, а потом по одной из сторон), я пробрался до места возможного заложения взрывчатки при уничтожении каменоломен. Нашёл пластиковые вёдра, и проржавевшее насквозь металлическое. Кажется, там кто-то ещё когда-то копал. Посидели в очень интересном гроте с “навесным потолком” от слова “нависать”. Там держащаяся на воздухе глыба весом в несколько десятков тонн висит над всем гротом на честном слове. Сложил поддерживающую забутовку. (10.2009)
топосъёмку не делал. Не вижу смысла. Система небольшая, за полчаса-час обойти-обползать можно. По раскопкам – помощники мне всегда кстати, я практически один там лазию, опасно это и медленно. Да и давно я там не был уже. Пока оттепель лазить не советую – есть опасность обвалов (особенно в той части пещеры, где идут раскопки). При раскопках надо ставить крепи посерьёзнее, чем забутовки из камней (там потолок разваливается), а я только их и собирал.
В субботу вечером встретились с Pystota и Bober. Работали вахтовым методом в дальнем конце системы. Ночью до 8-ми утра была наша вахта. Было прокопано и расширено около 3-х метров прохода (копали известковую мелочь размерами в среднем до 25 см, смешанную с крошкой и глиной, расширялись скалывая куски монолитной стенки).
На следующий день в забое работали Pystota и Bober. Было пробито ещё около 2-х метров хода и вскрыт зал с земляным конусом и земляным заплывшим полом. Ему больше всего подойдёт название “Комариный”. Поскольку комаров там оказалось до жопы! Вход в этот зал временно через шкурник-костолом с поворотом. После его прохода ваши коленки будут сгибаться в обе стороны.
Мещеринские пещеры
— это древние каменоломни, в которых добывался белый камень, идущий на строительство Москвы. Подобных подземных объектов в Подмосковье несколько, но этот особенный. Более ста лет он простоял “законсервированный” и лишь несколько лет назад энтузиасты-спелеологи прокопали вход в эти пещеры. Общая протяжённость пещер оценивается в несколько километров. В связи с их малой известностью они почти не посещаются спелеологами. Штреки и проходы сохранили первозданную чистоту и нетронутость. Иногда встречаются старинные орудия труда и предметы быта тех времён. Отличные, подробные карты пещер делают посещение этого объекта безопасным и интересным! Кроме этого есть оборудованные подземные стоянки, на которых можно комфортно отдыхать и ночевать. Если вы бывали раньше в других подобных пещерах, то посетив Мещеринские увидите насколько они отличаются чистотой и безлюдностью. Это настоящая Терра инкогнита среди Подмосковных каменоломен. А если это ваша первая поездка под землю, то она станет яркой и запоминающейся на всю жизнь!
Разрез у деревни Хатунь
Фед. округ: Центральный
Московская область, Ступинский район
Категория: Памятник природы
Геологический профиль: Стратиграфический
Нормативно-правовая основа функционирования геологического объекта: Схема развития и размещения ООПТ в Московской области, Постановлением № 106/5 от 11.02.2009 г.(ред.05.03.2014 N 129/7)
Перечень основных объектов охраны: опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса, разрез перемежается карстовыми провалами и небольшими боковыми выработками породы.
Краткое описание геологического памятника природы Разрез у деревни Хатунь:
В четырех обнажениях, вскрывается опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса. В нижней части крутого задернованного склона под церковью села Хатунь наблюдаются высыпки красных и зеленых глин, по которым выходят ключи. В трех метрах выше, над окрашенной в красноватые тона осыпью, снизу вверх обнажаются: красновато-зеленоватые доломиты; доломиты вторичные, пористые в средней части; белые массивные детритовые, участками окремнелые, известняки с конкрециями светлого кремня и остатками фораминифер. На дне Хотуньского оврага ниже с. Хатунь наблюдаются выходы тех же известняков с кремнями, выше которых обнажаются: переслаивание мергелей, криноидных известняков и глин с остатками фораминифер, остракод, радиолярий, мшанок, брахиопод; брекчиевидные и конгломератовидные известняки с галькой черного известняка, остатками фораминифер и остракод. Эти слои полностью повторяются в небольшом обнажении у дер. Горы.
Выше в том же овраге, с перерывом 1-2 м, обнажаются: переслаивание тонкоплитчатых детритовых известняков и зеленых глин, содержащих конкреции бурых кремней и остатки фораминифер, остракод, радиолярий, криноидей (сл. 6; видимая мощность 0,85 м); доломиты со стяжениями кремней и кристаллами флюорита (0,25 м); переслаивание тонкозернистых и криноидных известняков и зеленых глин с остатками фораминифер, мшанок, криноидей; белые фарфоровидные доломиты со стяжениями кремня.
Более высокие уровни каширского горизонта обнажаются вблизи вершины оврага и в средней части высокого склона под церковью села Хатунь. Над доломитами слоя 9 вскрываются: перекристаллизованная порода с неясно выраженной брекчиевидной структурой; палыгорскитовая глина; переслаивание афанитовых детритово-шламовых известняков, мергелей, реже – доломитов и зеленоватых глин с остатками фораминифер и брахиопод.
Вышележащие слои каширского горизонта обнажаются выше по течению в правом берегу р. Лопасни у мельницы в конце с. Хатунь. В нижней части склона выходят: белый, участками темный, детритовый известняк с остатками водорослей, фораминифер, мшанок, голотурий, криноидей и морских ежей; белый детритовый, участками комковатый, известняк с остатками фораминифер, гастропод, двустворчатых моллюсков; переходящий в доломит белый тонкоплитчатый известняк со следами биотурбаций и строматолитами; лиловая глина; глинистый известняк с остатками водорослей, фораминифер, остракод, гастропод и брахиопод, с неровной, размытой верхней поверхностью напластования; переслаивание мергелей, шламовых и детритовых известняков с остатками водорослей, фораминифер, остракод, криноидей и брахиопод; залегает со слабым, но четким размывом.
Более высокие горизонты обнажаются в верхней части оврага у с. Хатунь: белые доломиты со стяжениями кремня; переслаивание известняков мергелей и глин; в известняках встречены остатки фораминифер и брахиопод; красные глины.
Глины перекрываются известняками подольского горизонта с остатками фораминифер и гастропод.
Географическое положение:
на р. Лопасне, в районе села Хатунь
Широта: 55.02 Долгота: 37.83 (градусы)
Катакомбы и пещеры Подмосковья.
(автор: Сергей Гусаков)
ВВ N35 сентябрь 1998
Спелестология – это увлекательный симбиоз туризма и науки, изучающий полости искусственного происхождения. О ней “ВВ” подробно рассказывал в N 29.
Вблизи Москвы много подземных полостей, добраться до которых несравненно легче (а чаще и безопасней), чем до пещер Кавказа, Урала, Крыма и Средней Азии. И потому удержаться от путешествий в подмосковные пещеры довольно трудно — да и стоит ли? Если ты душой полюбил фантастический Мир Белого Камня, то каково это — позволять себе видеть его лишь раза два в год, тогда как “под боком” у тебя практически неисчерпаемый запас каменоломен (хорошо изученных и обжитых другими спелеологами или совершенно не исследованных, не столь важно). Для тех, кто не мыслит себе выходные без Мира Подземли, и предназначена данная статья.
Только в ближнем Подмосковье известно около 100 подземных полостей, но не меньше, судя по архивным данным, может быть еще найдено и вскрыто. Поскольку почти все пещеры Подмосковья искусственного происхождения, а добыча камня велась, как правило, по берегам рек (в конкретных районах с традиционно культивируемым каменоломенным ремеслом), то для удобства описания разделим территорию области на несколько зон. В каждой из них пещеры имеют общие “генетические” признаки и сходную морфологию, состав пласта, в котором разрабатывались, и, чаще всего, общее время разработки.
I. ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН.
По единодушному признанию “корифеев жанра”, в истории подмосковной спелестологии он занимает важнейшее место. Добыча белого камня велась по берегам рек Десны, Пахры, Мочи и Лубянки. Известны также разработки непосредственно на территории города Подольска, например под городским парком (входы в каменоломню были взорваны после того, как в ней заблудились в начале 70-х годов двое школьников). По берегам Десны насчитывается семь “дыр”, в том числе знаменитые Силикаты (протяженностью 11,7 км) и Рыбинка (2 км). По Пахре известно около 20 полостей, часть из них (от 500 до 940 м) была вскрыта благодаря работам в карьере при добыче “белого камня”. Около реки Мочи — более 10 разработок, по реке Лубянке — 8.
Самая известная пещера района — Силикаты. По многочисленным свидетельствам очевидцев, именно с нее (а также с каменоломни Сьяны, о которой речь пойдет ниже) началось в начале 60-х освоение спелеологами подмосковных каменоломен. Тогда еще не было разделения спелеологии на “вертикальную” и “горизонтальную”; в “антрактах” меж редкими поисковыми выездами в Горный Крым и на Кавказ основоположники нынешней российской спелеологии не гнушались по выходным проводить исследовательские работы в подмосковных каменоломнях. Автор статьи лично присутствовал при историческом моменте первопрохождения Ю.Францем (его именем назван в Силикатах один из гротов и “море”, из которого берется питьевая вода) и А.Морозовым (будущим президентом федерации спелеоспорта страны) сбойки между Первой и Второй системами Силикат, тогда разделенных забутованным штреком на две отдельные системы.
Силикаты, или система Силикатная, не представляли собой спортивного интереса (здесь относительно просторные ходы и гроты с сохранившимися в некоторых местах рельсовыми путями; на начало 70-х даже оставалось несколько вагонеток) и довольно быстро стали просто местом отдыха тех, кто выходные предпочитал проводить не в городе или лесу, а под землей. Из-за агрессивного настроения местной шпаны к чужакам-спелеологам в Силикатах началась затяжная подземная война, главным оружием которой стал волок — дымовая завеса, создаваемая с хулиганскими целями. Мало того, что дым под землей сам по себе страшное бедствие (куда ему деться из замкнутого подземного пространства?), иные волоки включали в себя столь едкие химические соединения, что армейские газы против них выглядели невинной шалостью. Все это отвратило от Силикат тех, кто действительно хотел общения с Миром Подземли, и тем самым способствовало более активному поиску, вскрытию и освоению других каменоломен. Сейчас вход в Силикаты засыпан по распоряжению властей Подольского района. Над бывшим входом строятся коттеджи для “новых русских”, не подозревающих о том, что в один прекрасный день земля под их домиками разверзнется провалами в как бы “не существующую” пещеру…
II. ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН.
В долине реки Рожайки в окрестностях дер. Редькино известны три каменоломни, около села Никитского (бывший город Никитск, заложенный при Екатерине специально для добычи белого камня, отсюда его герб с изображением белых кирпичей и скрещенных кайл на черном поле) находятся не менее знаменитые, чем Силикаты, Никиты (длина отснятой части пещеры около 10 км, потенциальная — в 3 раза больше), рядом с ними — не столь большие Эльдорадо, Синеглазка и закрытая в настоящее время Изюминка.
Никиты (или Никитская), Синеглазка и Эльдорадо когда-то составляли единое целое вместе с системой ЖБК; суммарная длина выработки достигала 54 км. Сейчас Эльдорадо отрезано от Никит непроходимыми завалами и полостью старого карьера. Соединяются ли Синеглазка и ЖБК — под вопросом: по некоторым признакам, соединение уже пройдено и Синеглазка ныне вновь является частью Никит наравне с другими системами (Западней, Зазеркальем, Сейсмозоной, ЖБК, Дальней, Сеткой, Крайне Правой, Бородинскими полями и Клондайком), однако точной спелеотопосъемки пока не проводилось. Своего же выхода на поверхность Синеглазка не имеет с 1972 года: он был замыт во время паводка на Рожайке, а глобальный обвал входового штрека свел на нет любые попытки вскрыть его с поверхности.
Система Никитская — самая технически сложная из всех подмосковных каменоломен, и посещение ее требует спелестологических навыков как в преодолении опасных и узких мест, так и в ориентировании в чрезвычайно сложном лабиринте ходов (до сих пор точной спелеотопосъемки этой системы не существует). Автор нисколько не преувеличивает опасность Никит: в 1976 году при попытке вскрытия нового входа в них погиб замечательный парень В.Шагал, незадолго до того открывший красивейшие никитские сталактиты (с тех пор каждый год 27 июня или в ближайшие к этой дате выходные спелеологи всех подмосковных систем собираются в Никитском, чтоб отдать дань его памяти); в 1979 году в Никитах погиб И.Шкварин (судя по всему, это было заказное убийство, но “от этого не легче” — погиб-то под землей); в 1991 году при до сих пор не выясненных обстоятельствах в Никитах умер Коля Никитин (по одной из версий причиной смерти стало отравление)…
Были и иные ЧП, закончившиеся не столь трагично. В качестве примера можно привести январские “спасы” этого года, когда в течение двух суток поисковые группы спелеологов в содружестве со спасателями МЧС (только спасателей работало около 60 — вдумайтесь в эту цифру!) искали по всей пещере потерявшегося мальчика 13 лет, и совсем недавний случай, когда в Никитах заблудилось двое школьников (автору статьи удалось их найти за 20 минут, но это скорее приятное исключение, чем правило).
Тем не менее именно в Никитах в 70–80 годах сложился удивительный спелеоэтнос, органично впитавший культуру КСП и подпольного русского рока, диссидентские и просветительские идеи, занимавшийся научными программами и чисто спортивной спелестологией: суммарная длина Никит за десять лет выросла с 4,5 до 15 км, здесь проводились длительные (до трех месяцев) одиночные и групповые спелеонавтические пребывания; одновременно “никитяне” занимались поисковыми работами близ поселка Володарского и в Старице, участвовали в экспедициях в Подолию, Горный Крым, Среднюю Азию, на Урал и Кавказ. Все эти годы регулярно выпускались спелеогазеты и журналы (по условиям тех лет — подпольные), организовывались слеты и подземные концерты, масштабно праздновались Новый год, дни рождения, сочинялись песни, стихи и спелеопроза. Можно с уверенностью сказать, что 2/3 современного спелеофольклора ведет свое происхождение из Никитского Круга.
Естественно, властям не могла понравиться такая спелеовольница. 10 декабря 1987 года, в Международный день защиты прав человека (!), входы в Никитскую систему были взорваны — так агонизирующая власть напоследок “дала ниже спины” неофициальной спелеологии. Разумеется, произносились красивые речи о том, что все это делается исключительно из заботы о жизнях спелеологов, однако именно за время существования описанного никитского спелеоэтноса в пещере НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ЧП, окончившегося трагически или вызвавшего какие-либо расходы властей (не считая оплаты нездорового любопытства стукачей из КГБ). Если что и случалось — а спелеология изначально опасное времяпровождение, — любое ЧП разрешалось силами своего неофициального спасотряда. Так что данная “отмазка” была шита красными нитками… Два года, по словам одного из организаторов этого безумного мероприятия, понадобилось для подготовки взрывов — и 20 минут пришлось потратить “никитянам”, чтобы месяц спустя вновь отворить входы…
Но не только интересной жизнью и чисто спортивными трудностями притягивали к себе Никиты спелестологов в те годы. Пещеру пересекает ряд тектонических разломов со всеми видами хорошо развитого карста (натечная драпировка, сталактиты, сталагмиты, “лунное молоко” и кристаллические кальцитовые образования); в изобилии встречаются здесь разнообразные окаменелости, многие гроты столь необычных форм, что ради одного только любования причудливым подземным ландшафтом стоит посетить эту каменоломню.
Архивные поиски и опросы местных жителей выявили возможное существование по правому берегу реки Рожайки, чуть ниже села Никитского, еще одной, быть может, даже самой обширной каменоломни Подмосковья, разрабатывавшейся зэками в 1935–1940 г. По словам старожилов, когда были остановлены нецелесообразные, по-видимому, работы, зеки были загнаны внутрь каменоломни, после чего саперы из НКВД взорвали входы. Сейчас в апреле и в октябре — ноябре (по первому и последнему снегу) отчетливо просматриваются колеи, ведущие к бывшему входу; в начале 80-х годов еще были видны рельсы, торчащие из земли в склоне оврага. Эта мрачная страница нашей тайной истории еще ждет своих исследователей.
В долине реки Пахры между деревнями Белеутово и Сьяново есть еще четыре полости более 1 км, в окрестностях Сьяново — система Пионерская и знаменитые Сьяны (27 км). Они, как и Силикаты, послужили в 60-х годах катализатором развития подмосковной спелестологии, и в 1974 году власти, борясь с “не организованным сверху хождением под землю” залили бетоном единственный к тому времени известный вход в каменоломню.
А теперь представьте себе: есть пещера, доступа в которую по вине властей нет, с поверхности льются кислотные осадки, почва размывается, разрушается известняковый пласт, слабеют и трескаются своды, ходы и гроты потихоньку “садятся” и обваливаются… А на поверхности полным ходом идет промышленная и частная застройка. Схем катакомб нет (ведь спелестологи — “враги народа”), исторические данные в архивах отсутствуют — вымараны секретным отделом КГБ (да и кто из застройщиков утруждает себя копанием в архивах?!). И вот трескаются и потихоньку проваливаются под землю жилой пятиэтажный дом, школа и клуб в Чурилково, близ Котляково свежепоставленные столбы телеграфной линии именуются местными жителями “пьяный лес”, а недостроенные коттеджи разрушаются; в Никитском первая же поставленная опора ЛЭП-500 (точнехонько над пещерой!) “по пояс” уходит в землю… К тому же по весне иной раз вскрываются входы в забытые и непосещаемые спелестологами катакомбы — в них лезут любопытные местные школьники… Дальнейшее предугадать нетрудно: координаты пещеры никому не известны, состояние свода наверняка критическое (в ней теперь никто не укрепляет опасные места), спелеоопыта же у школьников — 0,000.
Об экономической выгоде использования пещер, находящихся на территории совхозов и колхозов, и говорить нечего: туризм, как известно, после нефтедобычи стоит в мире на втором месте по окупаемости вложенных затрат. Под землей можно также выращивать шампиньоны, проводить спелеонавтические исследования; с успехом во всем мире уже десятки лет лечат в пещерах и катакомбах различные легочные заболевания, болезни вегетативной системы, расстройства слуха и зрения. Пещерная вода, богатая биологически активным кальцием, эффективно укрепляет зубы и кости, полезна беременным… И это еще весьма сокращенный перечень “пещерных заслуг”!
Но вернемся к теме статьи (тем более, что Сьяны были героически вскрыты в 1988 году славной командой старых сьяновских спелестологов, чьи имена увековечены на стене одного из гротов).
У Новлинских выселок есть 4 небольшие каменоломни, у деревни Киселихи — одна, около Камкино находятся известные многим любителям спелестологии Кисели (9500 м), прямо над входом которых образцово-показательно высится “новорусский” коттедж.
Хозяин его вначале вел войну со спелестологами, пытался замуровать вход, а потом (в одно из “перемирий” вдруг просел фундамент и дом дал трещину) был проведен по пещере и изнутри увидел, НА ЧЕМ СТОИТ его многомиллионная хоромина. Тогда домовладелец спешно принялся УКРЕПЛЯТЬ ВХОД В ПЕЩЕРУ. Выходит, что у “новых русских” соображения больше, чем у власти. Впрочем, оно и понятно: денежки и жизнь — свои, личные…
Следуем дальше: у Красино, Жеребятьево и Мещерино — 5 систем, в Чурилково — 3, у Вяльково — 1, около Котляково — 7, между Колычево и пос. Володарского — 6.
III. ОКРЕСТНОСТИ ПОСЕЛКА ВОЛОДАРСКОГО
(Константиновский овраг). Здесь более 15 “дыр”, активно обжитых и посещаемых с середины 70-х годов. Недавно усилиями спелестологов были соединены пещеры Курья и Таврово, суммарная длина новообразованной системы около 5 км.
IV. НИЖНЕЕ МЯЧКОВО.
По архивным данным, тут были самые древние разработки белого камня в Московской области (Троице-Сергиевская лавра в Загорске строилась из этого камня); горизонт известняка, разрабатывавшийся в иных местах Подмосковья, официально так и называется, — “нижнемячковский”. Сейчас входы каменоломни замыты глиной.
V. ЮЖНЫЙ СЕКТОР.
Вдоль рек Москвы, Оки, Лопасни, Каширки, Осетра существует более 15 “дыр”. У города Троицка по р. Десне находятся известная каменоломня Ватутинки (длина около 500 м) и еще две, менее посещаемые.
VI. ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР.
Здесь около 30 полостей и мест разработок белого камня. Часть пещер была взорвана в 20-х годах, часть — в 1947–53 гг. (во исполнение сталинского указа о запрещении самовольного посещения подземных выработок). Наиболее известные и посещаемые в настоящее время пещеры находятся в районе Тучково — Санаторная — Полушкино; там, кроме каменоломен, есть знаменитая Полушкинская щель восьми метров глубиной — естественная раскарстованная пещера.
VII. МОСКВА.
Каменоломни находятся в Крылатском, Хорошове, Шепилихе, Пресне, Дорогомилове, Филях (глиняные разработки), под Воробьевыми горами (в той части, что ближе к “Мосфильму”), в Котловке, Лыткарино.
Кроме каменоломен, интерес спелестологов вызывают подземные ходы и схроны под старинными усадьбами, монастырями и военно-инженерными сооружениями (известны, например, системы подземных ходов в усадьбе Вороново, тщетно раскапываемые не одним поколением спелестологов и “примыкающими к ним лицами без определенных занятий”). А около дер. Авдотьино на р. Воре расположена единственная в Подмосковье песчаниковая (от слова песчаник) каменоломня.
Чем же привлекают каменоломни?
ЧТО МОЖНО НАЙТИ ПОД ЗЕМЛЕЙ (кроме приключений, конечно)?
Имеющие историческую ценность орудия труда и предметы быта тех, кто разрабатывал эти ходы, трудом своим закрепляя в веках понятие “Русь Белокаменная”; не меньшую ценность имеют надписи на стенах (разумеется, не новодел типа “Здесь был Вася”), которые оставляли разработчики ходов при подсчете добычи камня или (как в Старице) при прекращении большевиками древнего промысла. Есть под землей также настенные рисунки, например открытые в Сьянах нашей группой следы отправления под землей культа одной из сект сатанистов в 30-х годах прошлого века. Нередки находки раскарстованных ходов (как естественного, так и искусственного происхождения), зоны роста красивейших кристаллов кварцитов и кальцитов, окаменевшие отпечатки флоры и фауны каменноугольного периода. Встречаются под землей колонии живых летучих мышей.
К слову, разговоры о якобы имеющихся под землей кладах и запасах оружия являются трепом — поискам их не стоит уделять и минуты времени. По крайней мере, в Подмосковье.
Всем, кто впервые собирается в самостоятельное путешествие в каменоломни, следует помнить, что проблема ориентирования в их запутанных лабиринтах во много раз сложнее, чем в обычных пещерах. Не забудьте также и о том, что весной, во время сильно повышенного уровня грунтовых вод и неизбежного затекания входов жидкой грязью и глиной (их несут с поверхности талые воды), такие путешествия довольно опасны.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Вечерняя Москва. — М., 2011. — Вып. 27 октября — 2 ноября № 2 (25720). — С. 42—43. ( ссылка с 24-10-2017 )
Арефьева Т., Филимонова Т. Пещерный народец // Русский Репортёр. — 2009. — Вып. 40.
Головин С. Е., Булатов А. С., Сохин М. Ю. История вскрышных работ в подмосковье (1970-90 годы), практика поиска и вскрытия подземных полостей // Спелестологический Ежегодник РОСИ. — М., 1999.
Гусаков С. Б. История подмосковного спелеоандеграунда // Спелестологический Ежегодник РОСИ. — М., 1999.
Заграевский, 2008, гл. 1, ч. 3.
Звягинцев Л. И., Викторов А. М. Белый камень для подмосковья. — М.: Недра, 1989. — С. 113—115. — 118 с. — ISBN 5-247-00474-4.
Кудряшов Н. Белый камень для белокаменной // Наука и жизнь. — М.: Пресса, 1998. — № 2. — С. 77—78.
Долотов Ю. А. О длиннейших искусственных пещерах России. dolotov.narod.ru (личный сайт автора-спелестолога).
Чернобров В. А. Энциклопедия загадочных мест. — 3-е изд. — М.: Вече, 2000.
Заграевский С. В. ГЛАВА 1: Организация добычи и обработки белого камня в Древней Руси // Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника / Науч. ред. Т. П. Тимофеева. — М.: Алев-В, 2008. — С. 191. — 1000 экз. — ISBN 5-94025-099-8.
«Познавательный фильм»: Подземные странники — передача на телеканале Москва 24
Байбиков В. Ю. Подземные каменоломни и рудники города Москвы. — Спелестологический ежегодник РОСИ, 2001
Головин С. Е., Булатов А. С., Сохин М. Ю. История вскрышных работ в Подмосковье (1970-1990 годы), практика поиска и вскрытия подземных полостей // Спелестологический Ежегодник РОСИ 1999. М.: РОСИ-РОСС, 1999
Соколова В. М. Карст и псевдокарст долины реки Рожаи // Учёные записки МГПИ, т. 66, вып. 5. М.: МГПИ, 1957.
Пятерка загадочных пещер Подмосковья: призрак солдата и наскальные рисунки.
Alex Axt. OOUU.RU – Путешествия – Девятовские каменоломни (Силикаты) – Описание. oouu.ru.
«Теоретическая спелестология» | Автор: С. Сом | Каменоломни Москвы и Подмосковья.
Село Колычёво. – Деревни и сёла – Домодедовская история – Каталог статей
С. М. Голицын. Сказания о белых камнях. — Ярославль: Верхнее-Волжское книжное издательство, 1987. — С. 47—50.
Длиннейшие искусственные пещеры России
Долотов Ю.А. Сохин М.Ю. – ЗАГАДКА НОВЛЕНСКОЙ КАМЕНОЛОМНИ.
КОМИССИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ И КАРСТОВЕДЕНИЯ – Заседания комиссии за 2005 год. www.rgo-speleo.ru.
РАБОТ В ПОДМОСКОВЬЕ (1970-1990 ГОДЫ), ПРАКТИКА ПОИСКА И ВСКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПОЛОСТЕЙ].
Alex Axt. OOUU.RU – Путешествия – Пещеры. oouu.ru.
Тайны Серпухова: монастырские подземелья и клады времён Октярьской (1917 г.)революции. Наше Подмосковье
Спелестология юго-востока Московской области. Бортовой журнал кабриолета “Халабуда”
Карстовые провалы в Пущино (грот, пещеры) — Александр Л. и Светлана Л..
Река Осётр. Путеводитель с координатами.
Лыткаринские каменные промыслы. Рай в Лыткарино. Дата обращения 23 августа 2018.
П. С. Прокофьева, А. В. Сучков, М.И.Сметанин. Дорогомиловские Каменоломни . Сайт музея-заповедника “Горки Ленинские”.
- Россия:
- Тэги:
- 5158 просмотров
Вот так, всего 5000 человек, прогуливающихся по Интернету – узнали, что под Москвой есть море. И – пещеры.
- есть и поновее пересказ, это на 1977 год. А.Матвеев.
 Как могло получиться, что
целый народ так быстро исчез со страниц истории?
При освоении новых земель это случалось нередко.
Одни племена погибали в битвах, другие
мало-помалу смешивались с более сильными
соседями. Исторические документы того времени
пестрят упоминаниями о военных походах русских
князей, но о войнах с Мерей ничего не говорится:
она мирно подчинилась могущественному русскому
государству, более сильному экономически и
политически.
Меряне стали платить даль
русским князьям, ходили с ними в военные походы,
постепенно русели: забывали свою культуру,
языческую веру, родной язык. Писать о Мере
летописцу уже не было нужды. У него– дела
поважнее: раздоры русских князей, войны с
половцами, не за горами было татаро-монгольское
нашествие и кровопролитные сражения со шведами и
немцами. Тут не до Мери, и она исчезает со страниц
летописи.
Но это не значит, что Мери в
те времена уже не было. В 1071 году в Ростове, в
центре древней мерянской земли, восстали смерды
против насилия русских феодалов и их наместника
Яна Вышатича. Во главе восстания были волхвы из
Ярославля. Судя по многому, и сами волхвы и
восставшие смерды – те же меряне. А еще
повествуют древние документы, что во время этого
восстания в Ростове был убит епископ Леонтий,
который не только русский, но и мерьский язык
добре умяше. Значит, были еще меряне и в XI веке.
И, видимо, долго звучал
мерьский язык по глухим углам Ярославского и
Костромского краев, но, в конце концов, обрусели
последние меряне, и язык их исчез с лица земли.
Правда, трудно сказать, когда это случилось,
может быть, в XII–XIII, а может, и позднее.
Неужели больше ничего не
известно о древней Мере? Известно. В середине
прошлого века грандиозные по тем временам
раскопки предприняли археологи А. Уваров и П.
Савельев. Они исследовали тысячи памятников –
особенно курганов – и были совершенно убеждены в
том, что все эти памятники – мерянские. Но
курганы оказались древнерусскими.
И все-таки археологи сумели
отыскать мерянские памятники: следы крупных
наземных жилищ и полуземлянок, могилы и курганы,
низкие приземистые горшки с широкой горловиной и
даже ажурные шумящие подвески, которыми украшали
себя мерянские женщины. Почему нелегко было
найти археологические памятники мерян? Да просто
потому, что мерянское население было редким.
Меряне занимались охотой и
рыболовством, как и другие финно-угры, хотя к ним
уже проникало и земледелие, и, особенно,
скотоводство. Жили они небольшими группами,
государства до прихода русских у них не было.
Поклонялись меряне своим богам, деревянные
изображения которых – идолы – впоследствии
ретиво уничтожались русскими попами. И еще
известно, что у мерян был культ медведя…
Нельзя сказать, что мы очень
много знаем о хозяйстве и быте древней Мери. Но
ясно: меряне были таким же лесным
финно-угорским народом, как и Весь, которая жила
северо-западнее, в районе Белого озера, как и
Пермь, чьи угодья простирались в бассейне
Вычегды. Да и не могло быть иначе, потому что в те
далекие времена костромские и ярославские земли
были покрыты густыми лесами.
Но археологи не всемогущи:
перед ними только городища да кладбища. Грамоту
Меря не разумела, памятников письменности не
оставила. Находки археологов – обломки глиняной
посуды, орудия труда, оружие, украшения –
рассказывают о том, как жил человек. А на каком
языке он говорил? Нет языка – не узнать и
рода-племени.
Как могло получиться, что
целый народ так быстро исчез со страниц истории?
При освоении новых земель это случалось нередко.
Одни племена погибали в битвах, другие
мало-помалу смешивались с более сильными
соседями. Исторические документы того времени
пестрят упоминаниями о военных походах русских
князей, но о войнах с Мерей ничего не говорится:
она мирно подчинилась могущественному русскому
государству, более сильному экономически и
политически.
Меряне стали платить даль
русским князьям, ходили с ними в военные походы,
постепенно русели: забывали свою культуру,
языческую веру, родной язык. Писать о Мере
летописцу уже не было нужды. У него– дела
поважнее: раздоры русских князей, войны с
половцами, не за горами было татаро-монгольское
нашествие и кровопролитные сражения со шведами и
немцами. Тут не до Мери, и она исчезает со страниц
летописи.
Но это не значит, что Мери в
те времена уже не было. В 1071 году в Ростове, в
центре древней мерянской земли, восстали смерды
против насилия русских феодалов и их наместника
Яна Вышатича. Во главе восстания были волхвы из
Ярославля. Судя по многому, и сами волхвы и
восставшие смерды – те же меряне. А еще
повествуют древние документы, что во время этого
восстания в Ростове был убит епископ Леонтий,
который не только русский, но и мерьский язык
добре умяше. Значит, были еще меряне и в XI веке.
И, видимо, долго звучал
мерьский язык по глухим углам Ярославского и
Костромского краев, но, в конце концов, обрусели
последние меряне, и язык их исчез с лица земли.
Правда, трудно сказать, когда это случилось,
может быть, в XII–XIII, а может, и позднее.
Неужели больше ничего не
известно о древней Мере? Известно. В середине
прошлого века грандиозные по тем временам
раскопки предприняли археологи А. Уваров и П.
Савельев. Они исследовали тысячи памятников –
особенно курганов – и были совершенно убеждены в
том, что все эти памятники – мерянские. Но
курганы оказались древнерусскими.
И все-таки археологи сумели
отыскать мерянские памятники: следы крупных
наземных жилищ и полуземлянок, могилы и курганы,
низкие приземистые горшки с широкой горловиной и
даже ажурные шумящие подвески, которыми украшали
себя мерянские женщины. Почему нелегко было
найти археологические памятники мерян? Да просто
потому, что мерянское население было редким.
Меряне занимались охотой и
рыболовством, как и другие финно-угры, хотя к ним
уже проникало и земледелие, и, особенно,
скотоводство. Жили они небольшими группами,
государства до прихода русских у них не было.
Поклонялись меряне своим богам, деревянные
изображения которых – идолы – впоследствии
ретиво уничтожались русскими попами. И еще
известно, что у мерян был культ медведя…
Нельзя сказать, что мы очень
много знаем о хозяйстве и быте древней Мери. Но
ясно: меряне были таким же лесным
финно-угорским народом, как и Весь, которая жила
северо-западнее, в районе Белого озера, как и
Пермь, чьи угодья простирались в бассейне
Вычегды. Да и не могло быть иначе, потому что в те
далекие времена костромские и ярославские земли
были покрыты густыми лесами.
Но археологи не всемогущи:
перед ними только городища да кладбища. Грамоту
Меря не разумела, памятников письменности не
оставила. Находки археологов – обломки глиняной
посуды, орудия труда, оружие, украшения –
рассказывают о том, как жил человек. А на каком
языке он говорил? Нет языка – не узнать и
рода-племени.
 Первым, кто понял это, был…
археолог. Да-да, тот самый Уваров, что начал
раскопки на мерянской земле. В своей книге
"Меряне и их быт по курганным раскопкам",
которая вышла в Москве в 1871 году, Уваров
обратился к языку земли – топонимии. Он привел
длинный перечень местных – ярославских и
костромских–названий и объявил их мерянскими.
Но что они означают? С какими языками в родне? На
эти вопросы Уваров не нашел ответа. Но зато он
заметил, что некоторые топонимы прямо указывают
на мерян, например, деревня Меря, Мерекая волость,
Мерский стан… А что если отобрать такие названия
и нанести их на карту? Ведь мы определим
расселение Мери!
Может быть, и не так
рассуждал Уваров, но карту составил, только
увлекся и причислил к Мере кое-что лишнее: целую
кучу деревень с названием Мериново, села
Мерзлеево и Меркушево и еще некоторые населенные
пункты. А между тем, личное имя Меркуша
образовано от устаревшего Меркурий, Мерзлей,
очевидно, прозвище, сравните мерзнуть, мерзлый.
Ну а слово мерин – всем известно.
Кое-кто, правда, пытался
доказать, что слово мерин в этом случае – от Меря,
как чудин, русин – от Чудь, Русь. Но чудин и русин
– всегда названия лиц. А мерин? Как практически
различать слово мерин, якобы образованное от
Мери, и просто мерин в его наиобычном значении?
К тому же, в древних
памятниках среди других племен упомянуты,
простите, не мерины, а меряны, или меряне. В
Устюжском летописном своде читаем: Во времена
же Кия и Щока и Хорива новогородстии людие и с
ними словени, и кривичи, и меряны… А от меряны,
меряне единственное число–мерянин, а не мерин!
Ведь от Двина – двиняне, двинянин, от Устюг –
устюжане, устюжанин. Отсюда и фамилии –
Двинянинов, Устюжанинов. Только вот загадка:
фамилия Мерянинов мне нигде не встретилась. А
Мериновых – полно!
В обшем, ученые
спорили-спори-ли и в конце концов решили так: коли
есть исторические свидетельства, что Меря жила в
таком-то месте, топоним–на карту, прямо называет
он Мерю – тоже на карту, а все остальное – в
сторону.
Значит, учли, что летописная
Меря жила на Ростовском озере (иначе – озеро
Неро) и на озере Клещино (позднее – Плещееве и
Переяславское). А кроме того, нанесли на карту
деревни Молодая Меря и Старая Меря, что к югу от
Москвы, и все Мерские станы – а их не один – и
город Галич Мерский в Костромском краю.
И вот получился на карте
треугольник: основание – между верховьями Волги
и средним течением Оки, а вершина – костромские
земли. Вот где значит жили меряне!
Только можно ли доверять
местным названиям? Можно. И по простой причине.
Кто даст селу название Русское, если и в этом селе
и кругом живут русские? Конечно, никто. Значит,
названия, которые указывают на Мерю, могли
появиться только там, где вокруг мерян были
русские, или там, где за мерянскими поселениями
шла уже сплошь русская земля. Поэтому-то и можно
верить в мерянский треугольник. А он занимает
обширную территорию: западную половину
Костромской и Ивановской областей, Ярославскую,
Владимирскую и Московскую области, восток
Калининской области.
Первым, кто понял это, был…
археолог. Да-да, тот самый Уваров, что начал
раскопки на мерянской земле. В своей книге
"Меряне и их быт по курганным раскопкам",
которая вышла в Москве в 1871 году, Уваров
обратился к языку земли – топонимии. Он привел
длинный перечень местных – ярославских и
костромских–названий и объявил их мерянскими.
Но что они означают? С какими языками в родне? На
эти вопросы Уваров не нашел ответа. Но зато он
заметил, что некоторые топонимы прямо указывают
на мерян, например, деревня Меря, Мерекая волость,
Мерский стан… А что если отобрать такие названия
и нанести их на карту? Ведь мы определим
расселение Мери!
Может быть, и не так
рассуждал Уваров, но карту составил, только
увлекся и причислил к Мере кое-что лишнее: целую
кучу деревень с названием Мериново, села
Мерзлеево и Меркушево и еще некоторые населенные
пункты. А между тем, личное имя Меркуша
образовано от устаревшего Меркурий, Мерзлей,
очевидно, прозвище, сравните мерзнуть, мерзлый.
Ну а слово мерин – всем известно.
Кое-кто, правда, пытался
доказать, что слово мерин в этом случае – от Меря,
как чудин, русин – от Чудь, Русь. Но чудин и русин
– всегда названия лиц. А мерин? Как практически
различать слово мерин, якобы образованное от
Мери, и просто мерин в его наиобычном значении?
К тому же, в древних
памятниках среди других племен упомянуты,
простите, не мерины, а меряны, или меряне. В
Устюжском летописном своде читаем: Во времена
же Кия и Щока и Хорива новогородстии людие и с
ними словени, и кривичи, и меряны… А от меряны,
меряне единственное число–мерянин, а не мерин!
Ведь от Двина – двиняне, двинянин, от Устюг –
устюжане, устюжанин. Отсюда и фамилии –
Двинянинов, Устюжанинов. Только вот загадка:
фамилия Мерянинов мне нигде не встретилась. А
Мериновых – полно!
В обшем, ученые
спорили-спори-ли и в конце концов решили так: коли
есть исторические свидетельства, что Меря жила в
таком-то месте, топоним–на карту, прямо называет
он Мерю – тоже на карту, а все остальное – в
сторону.
Значит, учли, что летописная
Меря жила на Ростовском озере (иначе – озеро
Неро) и на озере Клещино (позднее – Плещееве и
Переяславское). А кроме того, нанесли на карту
деревни Молодая Меря и Старая Меря, что к югу от
Москвы, и все Мерские станы – а их не один – и
город Галич Мерский в Костромском краю.
И вот получился на карте
треугольник: основание – между верховьями Волги
и средним течением Оки, а вершина – костромские
земли. Вот где значит жили меряне!
Только можно ли доверять
местным названиям? Можно. И по простой причине.
Кто даст селу название Русское, если и в этом селе
и кругом живут русские? Конечно, никто. Значит,
названия, которые указывают на Мерю, могли
появиться только там, где вокруг мерян были
русские, или там, где за мерянскими поселениями
шла уже сплошь русская земля. Поэтому-то и можно
верить в мерянский треугольник. А он занимает
обширную территорию: западную половину
Костромской и Ивановской областей, Ярославскую,
Владимирскую и Московскую области, восток
Калининской области.
 В центре треугольника –
Ярославская земля. И, наверное, не случайно озера
Ростовское-Неро и Клещино-Плещеево, на берегах
которых обитала летописная Меря, тоже на
Ярославшине. Да и сам Ярославль, по преданию,
возник на месте мерянского городища Медвежий
Угол. Рассказывают, что не хотели меряне –
человецы поганые веры – подчиниться
русскому князю Ярославу и выпустили на него
священного зверя – медведя. Князь убил медведя, и
тогда подчинились ему меряне. Но еще долго будут
стоять на подворьях деревянные идолы, еще
ярославские волхвы поднимут бунт против Яна
Вышатича во Ростове городе и будут страшно
казнены по обычаю того же медвежьего культа:
повешены на деревьях и съедены медведем.
Вот почему, когда говорят о
Мере, прежде всего думают о Ярославской земле. И
первое, что бросается в глаза, это другое
название Ростовского озера – Неро.
Неро. Почему же оно так
называется? Неро – Меря? Ведь звуки н и м
– близкие, носовые. Давно уже заметили ученые это
созвучие. И, начиная с того же Уварова, нет числа
попыткам породнить названия с корнем мер
вроде Мерка, Мерский стан и названия с корнем нер.
А их немало в старых мерянских землях: Неро,
Нерехта, Нерль, Нерское… Только нет упоминаний о
племени Неря и нерянах в русской летописи. Всегда
– Меря и меряне.
Кроме того, все топонимы с
корнем мер – русского происхождения. А
Нерехта? От этого названия так и веет седой
древностью. И оно на своем месте среди
таинственных названий с окончаниями ехта, охта
вроде Тоехта и Козохта.
Ну, а не может ли корень нер
значить что-нибудь другое?
О названии озера Неро
написано уже много. Одни ученые видели в нем
мансийское няр – болото, хотя манси, которые
живут на Северном Урале, никогда не населяли
Подмосковье. Другие рассуждали так: слово Меря
сходно с самоназванием марийского народа – мари.
Вот и надо обратиться к марийскому языку. А
дальше мнения разошлись: один ученый увидел в
Неро марийское нёрё – сырой, влажный, другой
– это был знаменитый лингвист Макс Фасмер –
марийское нер – нос.
Если у вас под руками карта
Подмосковья, найдите Ярославскую область и озеро
Неро. На его южной стороне виден здоровенный мыс.
Его-то и имел в виду Фасмер, когда сравнивал
марийское нер – нос и название озера Неро:
ведь переход нос – мыс – самая ходовая
метафора в различных языках – и славянских и
финно-угорских. Еще один ученый – финн П. Равила
– стал, правда, возражать: нос-то, мол, нос, но
только не из марийского языка, а из мордовсокого,
где нос – нерь.
В общем удивительная
картина: мнений много, и все они похожи на правду.
А ведь так бывает, когда до правды далеко.
Увлекшись спорами, ученый
мир почти не заметил гипотезу историка А.
Погодина о том, что название озера Неро и финское мэри
– море родственные слова, тем более, что местные
жители иногда говорят Меро вместо Неро.
От такой странной, на первый
взгляд, гипотезы поначалу просто отмахнулись: ну,
какие там моря в центре Восточно-Европейской
равнины, да и откуда в этих местах прибалтийские
финны? До них – чуть ли не тысяча верст и все
лесом. А марийцы и мордва – вот они, под боком, в
их языках и надо искать объяснения мерянских
тайн.
Но не все ученые так думали.
Карельский фольклорист В. Евсеев заметил, что
карелы – ближайшие родичи финнов – называют
словом мэри – море не только моря, но и
озера. Пошел карел рыбачить на маленькое озеро, а
жене говорит, что он идет на море. Да и русские в
Прионежье употребляют слово море в смысле озеро.
Впрочем, что там говорить, вспомните слова
знаменитой песни: Славное море, священный
Байкал. А Байкал – озеро, хотя и громадное…
Но почему Неро? Откуда здесь н?
Может быть, дело в том, что звуки н и м в
заимствованных словах легко заменяют друг друга.
Говорили же в старину Микола, Микита вместо
Никола и Никита, а Мефодия, наоборот, переделали в
Нефёда. А если порыться в диалектных словарях, то
там можно найти и не такое. Рыбацкую вершу
местами называют нёршой и мёршой,
кое-где – мордой, мерёдой, мерёткой, но
иногда и нерёткой. Лиственницу на русском
Севере могут назвать нёглой и меглой, а
ельца на Оби – мегденом и негдыном. Да и
в чисто русских словах можно встретить такую
мену: вместо нырять нет-нет да и услышишь мырять.
Но больше всего досталось
бедному пескарю. Мало того, что над ним глумится
любой с удочкой в руках. Пескаря сперва обозвали пескозобом,
то есть пескоедом за то, что он, якобы, ест песок. А
затем переделали пескозоб в бескозоб,
мескозоб, пискозоб и нискозоб.
Зато какая здесь коллекция
звуков – п, б и, конечно, наши м и н!
Значит, м перешло в н
уже в русском языке? Будем осторожнее: оно могло
перейти. Другой вариант: н на месте м –
какая-то неизвестная нам особенность мерянского
языка? Что предпочесть? Пока трудно сказать…
Что же еще остается? Надо
объяснить, откуда о в конце топонима Неро.
Ведь в финском языке – мэри. Но это уже не
так трудно. В старину согласование в роде
встречалось нередко: река Онега – озеро Онего,
река Волга – озеро Волго.
Итак, Неро – море. И,
наверное, потому, что по величине оно больше
других местных озер. Неужели мы отыскали первое
мерянское слово? И оно оказалось родней…
финского и карельского слов.
А может быть, мы ошибаемся?
Нельзя ли как-нибудь проверить?
Взгляните еще раз на карту
мерянских земель. Немного южнее Ростова и озера
Неро голубеет пятнышко. Это уже нам известное
озеро Клещино-Плещеево, или Переяславское. Здесь
и сейчас стоит древний город Переяславль –
Залесский, здесь когда-то юный Петр Первый строил
свой первый корабль, знаменитый ботик, а еще
раньше в этих местах сидела летописная Меря.
Севернее озера Неро – уже в
Костромской области – вытянулось еще одно
голубое пятнышко: Галичское озеро, на берегу
которого стоит Галич, ранее Галич Мерский. Не
подскажут ли нам что-нибудь эти мерянские места?
Бродили когда-то по Руси
офени-коробейники, продавали разный мелочной
товар и блюли, конечно, свою выгоду. Немало и
странствующих ремесленников-кустарей: кто
валенки катал, кто шляпы валял, кто печи клал.
Идут такие торговцы или
кустари по дороге, один из Костромы в Ярославль,
другой из Ярославля – в Кострому. Встретились у
какой-то деревни. Поздоровались и заговорили:
какие где цены, куда стоит сходить, а куда и нос не
кажи – да мало ли о чем могут они потолковать. А
тут откуда ни возьмись – третий. И, конечно, –
лишний.
И появились у коробейников
да кустарей свои тайные, условные, языки. Не
знаешь – ничего не поймешь! Вот, например, есть
такой язык у костромских кустарей-пимокатов,
поместному жгонов, называется он жгонским
языком. Бродят жгоны по белу свету и катают
валенки. Катали-катали, но – и на старуху бывает
проруха – вышло, да плохо. И говорит один жгон
другому: Похлили до перту, а то упаком
нашмарят! Перевод такой: Пошли домой, а то
валенком побьют!
Костромская губерния
издавна славилась и кустарями своими, и
условными языками. И вот, изучая язык галивонских
алеманов, жителей Галича, который по-алемански
Галивон, ученые обнаружили, что алеманы называют
Галичское озеро… Нерон. Да, именно так – не Неро,
а Нерон!
Давно известно, что в
условных языках может приютиться всякая всячина
и даже очень древние слова. А здесь: и Меря жила, и
озеро большое, и тоже слово Неро, только с
маленькой добавкой. Что же это за н или он,
которое портит нам все дело?
Ответ – в тех же условных
языках. Кроме озера Нерон, есть и Галич-Галивон, а
еще Сибирь-Обон, наверное, от Обь. А в жгонском
языке базар – базарон: Сохляй на базарон –
Сходи на базар. Значит, н или он
появилось в условных языках.
Ну а что нам расскажут
названия озера Переяславского? А ничего не
расскажут. Они и выглядят совсем не по-мерянски:
Клещино, Плещеево. Эти названия – славянские.
Финно-угорские топонимы с двух согласных
начинаться не могут. Забыто древнее название
озера…А теперь вспомним: на Урале из озера
Исетского течет река Исеть, из Аятского – Аять, в
Архангельской области из Кенозера – река Кена,
из Ундозера – Ундоша. Да, такое бывает часто:
название реки образуется от того же корня, что и
озеро. Поэтому по имени реки иногда можно узнать
древнее название озера.
Теперь быстрее к карте.
Смотрите: из Переяславского озера течет в Волгу
река. Ее название – Нерль! Правда, не понятно, что
это за ль: может, какой-то мерянский суффикс,
а, может, и русская добавка. Изменили же русские
названия реки Муръюга в Мурлюга, а Веръюг – в
Верлюг. Но для нас это не так уж важно. Главное,
что мы можем восстановить прежнее название озера
– Нер.
Значит, не зря старались:
похоже, что мер или нер по-мерянски
действительно большое озеро.
Значит, Меря – родня
прибалтийских финнов? Да, родня, как и все другие
финно-угорские народы. Но Меря – не
прибалтийские финны. И не только потому, что
перед нами пока одно-единственное мерянское
слово. А этого, сами понимаете, маловато для
выводов.
Меряне были в центре
финно-угорского мира: южнее их жила тоже
обрусевшая Мурома, еще южнее – мордва, восточнее
– марийцы, к северу – вепсы, карелы и другие
прибалтийские финны, еще севернее – саами. Вот и
думают некоторые ученые, в частности, такой
тонкий знаток нашей топонимии, как недавно
скончавшийся профессор Ленинградского
университета Александр Иванович Попов, что язык
Мери – переходный от языков волжских финнов –
мордвы и марийцев – к языкам прибалтийских
финнов – вепсов, карел и других.
В этом предположении что-то
есть. Пусть название озера Неро близко к
прибалтийско-финскому мэри – море. Но на
мерянской территории можно найти и совсем
по-марийски звучащие топонимы. Так, в Костромской
области есть несколько рек с названием Ингирь.
Раз название повторяется, то возможно, что в нем
скрыт географический термин. И верно: энгэр –
река, но уже не по-фински, а по-марийски.
И чем дальше языковеды
изучают остатки или, как говорят, субстрат
мерянского языка, тем больше перед ними
возникает загадок.
Давно уже! замечено, что
древние мерянские поселения часто имеют
названия на бол или бал: Яхнобол на реке
Яхне, Пезобал – на Пезе, а вот Кибол почему-то на…
Каменке. Мелькнула мысль, а может быть. Каменка –
перевод, калька, мерянского слова. И
действительно: камень по-фински киви, а
по-марийски – кю.
Но что такое бол?
Наверное, деревня, поселение. И снова загадка:
одни ученые вспоминают венгерское фалу –
деревня, село и мансийское павыл – поселок,
другие думают об удмуртском пал – сторона. В
общем, сколько голов – столько ответов.
А как вам понравится такая
история. В Подмосковье есть речка Рандобож, а еще
Инобож, Кибож, Серебож. Это самое бож легко
объяснить из коми языка, где вож – ветвь,
приток, или из марийского вож – корень.
Например, Войвож по-коми – Северный приток, а
Лунвож – Южный приток. Только ни у коми, ни у
марийцев нет слова рандо. Зато есть у
карелов ранда – берег.
Что за мешанина? –
скажет читатель. Нет, это не мешанина. Это просто
особый финно-угорский язык: не коми, не марийский
и не карельский, а… мерянский.
Возьмем еще одну группу слов
– диалектизмы. Оказывается, в местных русских
говорах – ярославских и костромских –
сохранились отдельные мерянские слова, значение
которых точно известно. Представляете, какая это
ценность.
Так, если из озера течет
речка в другое озеро или в реку, то в старой
мерянской области эту речку и сейчас назовут
особым словом вёкса – протока. А рядом
выстроились: финское окса – ветвь, саамское
– вуаксэ – ответвление, коми вис
(основа виск–протока), марийское икса–
залив. Что предпочесть? Видите, какая трудная
задача.
А то есть еще в костромском
краю такое словечко – сорьез. Это название
рыбы хариус, или, как часто ее называют, харьюз.
Русское слово хариус, харьюз заимствовано
из финского харъюс. А сорьез? Сорьез,
наверное, мерянское слово. Но откуда здесь с?
Покопались ученые в справочниках и узнали, что
так должно было бы выглядеть саамское название
хариуса: там, где у финнов х, у саами – с
или ш. Только вот незадача: нет в саамском
языке такого слова. Хариус по-саамски– соавэл.
Мерянский язык –
удивительная загадка, и ученым еще долго
придется думать о том, где место Мери среди
финно-угров. Но кое-что мы уже знаем. Раньше
ученые только догадывались, что
меряне–финно-угры, теперь перед нами первые
мерянские слова, свидетели того, что Меря
говорила на финно-угорском языке. И пусть факты
противоречивы, все равно клубок потихонечку
будет распутываться – ведь мерянский язык еще
только начинают изучать.
А главное, поскорее собрать
бесценные мерянские слова – только они могут
открыть дорогу к прошлому.
**
А без прошлого – не будет и будущего..
Меря из Моравии а то и со стороны Франков. А то и немцев. Алеманы вообще то по французски немцы. Тысячелетия три четыре назад – одна народность была. И – походу – часть из Сибири, Прибайкалья, Урала.
пяток мерьских слов от Живого человека. Насколько в три года чего запомнил..
– Рыбка Снеток. (оз. Клещино – Плещеево. и Нерль) Язь, харьЮз – по русски с ошибкой, так это Мерянское слово. Ыз – походу верша, затон рыбий. колЫзо – рыбак. Теперь речка Клязьма – понятно, что земля рыбаков. Шига – (ух,_леший) колючая рыба, ерш по-русски. Кидай его – то есть швыряй, Кида – Рука по – мерянски. Бери обратно, на уху сойдет. Еще и шиха – ничего не осталось – крохи – было зерно а осталась мякина – шиха. Ошишивается собака, отряхивается, остался шиш (от денег). Пыра шатыра – скушает, то есть волк лесной. Шатер – не совсем на мере, скорее у южных соседей – Великой Булгарии, по русски – татар. Ну тыры пыры. Пырей трава – попробуй переложить по-русски без толмача. Даже изба – слово дерево это Па, камень – Ки- приставка. Русские переиначили, но слышно в названии Шаболовка, например. Маська или Кондо – ну наш тотемный зверь, он разумный, разве что чуток пугливый. Есть зверь еще сильнее, и совсем травоядный – забыл как – ну не принято называть и тоже тотем – вот каким сильным надо быть.. Несется по лесу, но не конь, крупнее.
хва пока, добавят еще много.
В центре треугольника –
Ярославская земля. И, наверное, не случайно озера
Ростовское-Неро и Клещино-Плещеево, на берегах
которых обитала летописная Меря, тоже на
Ярославшине. Да и сам Ярославль, по преданию,
возник на месте мерянского городища Медвежий
Угол. Рассказывают, что не хотели меряне –
человецы поганые веры – подчиниться
русскому князю Ярославу и выпустили на него
священного зверя – медведя. Князь убил медведя, и
тогда подчинились ему меряне. Но еще долго будут
стоять на подворьях деревянные идолы, еще
ярославские волхвы поднимут бунт против Яна
Вышатича во Ростове городе и будут страшно
казнены по обычаю того же медвежьего культа:
повешены на деревьях и съедены медведем.
Вот почему, когда говорят о
Мере, прежде всего думают о Ярославской земле. И
первое, что бросается в глаза, это другое
название Ростовского озера – Неро.
Неро. Почему же оно так
называется? Неро – Меря? Ведь звуки н и м
– близкие, носовые. Давно уже заметили ученые это
созвучие. И, начиная с того же Уварова, нет числа
попыткам породнить названия с корнем мер
вроде Мерка, Мерский стан и названия с корнем нер.
А их немало в старых мерянских землях: Неро,
Нерехта, Нерль, Нерское… Только нет упоминаний о
племени Неря и нерянах в русской летописи. Всегда
– Меря и меряне.
Кроме того, все топонимы с
корнем мер – русского происхождения. А
Нерехта? От этого названия так и веет седой
древностью. И оно на своем месте среди
таинственных названий с окончаниями ехта, охта
вроде Тоехта и Козохта.
Ну, а не может ли корень нер
значить что-нибудь другое?
О названии озера Неро
написано уже много. Одни ученые видели в нем
мансийское няр – болото, хотя манси, которые
живут на Северном Урале, никогда не населяли
Подмосковье. Другие рассуждали так: слово Меря
сходно с самоназванием марийского народа – мари.
Вот и надо обратиться к марийскому языку. А
дальше мнения разошлись: один ученый увидел в
Неро марийское нёрё – сырой, влажный, другой
– это был знаменитый лингвист Макс Фасмер –
марийское нер – нос.
Если у вас под руками карта
Подмосковья, найдите Ярославскую область и озеро
Неро. На его южной стороне виден здоровенный мыс.
Его-то и имел в виду Фасмер, когда сравнивал
марийское нер – нос и название озера Неро:
ведь переход нос – мыс – самая ходовая
метафора в различных языках – и славянских и
финно-угорских. Еще один ученый – финн П. Равила
– стал, правда, возражать: нос-то, мол, нос, но
только не из марийского языка, а из мордовсокого,
где нос – нерь.
В общем удивительная
картина: мнений много, и все они похожи на правду.
А ведь так бывает, когда до правды далеко.
Увлекшись спорами, ученый
мир почти не заметил гипотезу историка А.
Погодина о том, что название озера Неро и финское мэри
– море родственные слова, тем более, что местные
жители иногда говорят Меро вместо Неро.
От такой странной, на первый
взгляд, гипотезы поначалу просто отмахнулись: ну,
какие там моря в центре Восточно-Европейской
равнины, да и откуда в этих местах прибалтийские
финны? До них – чуть ли не тысяча верст и все
лесом. А марийцы и мордва – вот они, под боком, в
их языках и надо искать объяснения мерянских
тайн.
Но не все ученые так думали.
Карельский фольклорист В. Евсеев заметил, что
карелы – ближайшие родичи финнов – называют
словом мэри – море не только моря, но и
озера. Пошел карел рыбачить на маленькое озеро, а
жене говорит, что он идет на море. Да и русские в
Прионежье употребляют слово море в смысле озеро.
Впрочем, что там говорить, вспомните слова
знаменитой песни: Славное море, священный
Байкал. А Байкал – озеро, хотя и громадное…
Но почему Неро? Откуда здесь н?
Может быть, дело в том, что звуки н и м в
заимствованных словах легко заменяют друг друга.
Говорили же в старину Микола, Микита вместо
Никола и Никита, а Мефодия, наоборот, переделали в
Нефёда. А если порыться в диалектных словарях, то
там можно найти и не такое. Рыбацкую вершу
местами называют нёршой и мёршой,
кое-где – мордой, мерёдой, мерёткой, но
иногда и нерёткой. Лиственницу на русском
Севере могут назвать нёглой и меглой, а
ельца на Оби – мегденом и негдыном. Да и
в чисто русских словах можно встретить такую
мену: вместо нырять нет-нет да и услышишь мырять.
Но больше всего досталось
бедному пескарю. Мало того, что над ним глумится
любой с удочкой в руках. Пескаря сперва обозвали пескозобом,
то есть пескоедом за то, что он, якобы, ест песок. А
затем переделали пескозоб в бескозоб,
мескозоб, пискозоб и нискозоб.
Зато какая здесь коллекция
звуков – п, б и, конечно, наши м и н!
Значит, м перешло в н
уже в русском языке? Будем осторожнее: оно могло
перейти. Другой вариант: н на месте м –
какая-то неизвестная нам особенность мерянского
языка? Что предпочесть? Пока трудно сказать…
Что же еще остается? Надо
объяснить, откуда о в конце топонима Неро.
Ведь в финском языке – мэри. Но это уже не
так трудно. В старину согласование в роде
встречалось нередко: река Онега – озеро Онего,
река Волга – озеро Волго.
Итак, Неро – море. И,
наверное, потому, что по величине оно больше
других местных озер. Неужели мы отыскали первое
мерянское слово? И оно оказалось родней…
финского и карельского слов.
А может быть, мы ошибаемся?
Нельзя ли как-нибудь проверить?
Взгляните еще раз на карту
мерянских земель. Немного южнее Ростова и озера
Неро голубеет пятнышко. Это уже нам известное
озеро Клещино-Плещеево, или Переяславское. Здесь
и сейчас стоит древний город Переяславль –
Залесский, здесь когда-то юный Петр Первый строил
свой первый корабль, знаменитый ботик, а еще
раньше в этих местах сидела летописная Меря.
Севернее озера Неро – уже в
Костромской области – вытянулось еще одно
голубое пятнышко: Галичское озеро, на берегу
которого стоит Галич, ранее Галич Мерский. Не
подскажут ли нам что-нибудь эти мерянские места?
Бродили когда-то по Руси
офени-коробейники, продавали разный мелочной
товар и блюли, конечно, свою выгоду. Немало и
странствующих ремесленников-кустарей: кто
валенки катал, кто шляпы валял, кто печи клал.
Идут такие торговцы или
кустари по дороге, один из Костромы в Ярославль,
другой из Ярославля – в Кострому. Встретились у
какой-то деревни. Поздоровались и заговорили:
какие где цены, куда стоит сходить, а куда и нос не
кажи – да мало ли о чем могут они потолковать. А
тут откуда ни возьмись – третий. И, конечно, –
лишний.
И появились у коробейников
да кустарей свои тайные, условные, языки. Не
знаешь – ничего не поймешь! Вот, например, есть
такой язык у костромских кустарей-пимокатов,
поместному жгонов, называется он жгонским
языком. Бродят жгоны по белу свету и катают
валенки. Катали-катали, но – и на старуху бывает
проруха – вышло, да плохо. И говорит один жгон
другому: Похлили до перту, а то упаком
нашмарят! Перевод такой: Пошли домой, а то
валенком побьют!
Костромская губерния
издавна славилась и кустарями своими, и
условными языками. И вот, изучая язык галивонских
алеманов, жителей Галича, который по-алемански
Галивон, ученые обнаружили, что алеманы называют
Галичское озеро… Нерон. Да, именно так – не Неро,
а Нерон!
Давно известно, что в
условных языках может приютиться всякая всячина
и даже очень древние слова. А здесь: и Меря жила, и
озеро большое, и тоже слово Неро, только с
маленькой добавкой. Что же это за н или он,
которое портит нам все дело?
Ответ – в тех же условных
языках. Кроме озера Нерон, есть и Галич-Галивон, а
еще Сибирь-Обон, наверное, от Обь. А в жгонском
языке базар – базарон: Сохляй на базарон –
Сходи на базар. Значит, н или он
появилось в условных языках.
Ну а что нам расскажут
названия озера Переяславского? А ничего не
расскажут. Они и выглядят совсем не по-мерянски:
Клещино, Плещеево. Эти названия – славянские.
Финно-угорские топонимы с двух согласных
начинаться не могут. Забыто древнее название
озера…А теперь вспомним: на Урале из озера
Исетского течет река Исеть, из Аятского – Аять, в
Архангельской области из Кенозера – река Кена,
из Ундозера – Ундоша. Да, такое бывает часто:
название реки образуется от того же корня, что и
озеро. Поэтому по имени реки иногда можно узнать
древнее название озера.
Теперь быстрее к карте.
Смотрите: из Переяславского озера течет в Волгу
река. Ее название – Нерль! Правда, не понятно, что
это за ль: может, какой-то мерянский суффикс,
а, может, и русская добавка. Изменили же русские
названия реки Муръюга в Мурлюга, а Веръюг – в
Верлюг. Но для нас это не так уж важно. Главное,
что мы можем восстановить прежнее название озера
– Нер.
Значит, не зря старались:
похоже, что мер или нер по-мерянски
действительно большое озеро.
Значит, Меря – родня
прибалтийских финнов? Да, родня, как и все другие
финно-угорские народы. Но Меря – не
прибалтийские финны. И не только потому, что
перед нами пока одно-единственное мерянское
слово. А этого, сами понимаете, маловато для
выводов.
Меряне были в центре
финно-угорского мира: южнее их жила тоже
обрусевшая Мурома, еще южнее – мордва, восточнее
– марийцы, к северу – вепсы, карелы и другие
прибалтийские финны, еще севернее – саами. Вот и
думают некоторые ученые, в частности, такой
тонкий знаток нашей топонимии, как недавно
скончавшийся профессор Ленинградского
университета Александр Иванович Попов, что язык
Мери – переходный от языков волжских финнов –
мордвы и марийцев – к языкам прибалтийских
финнов – вепсов, карел и других.
В этом предположении что-то
есть. Пусть название озера Неро близко к
прибалтийско-финскому мэри – море. Но на
мерянской территории можно найти и совсем
по-марийски звучащие топонимы. Так, в Костромской
области есть несколько рек с названием Ингирь.
Раз название повторяется, то возможно, что в нем
скрыт географический термин. И верно: энгэр –
река, но уже не по-фински, а по-марийски.
И чем дальше языковеды
изучают остатки или, как говорят, субстрат
мерянского языка, тем больше перед ними
возникает загадок.
Давно уже! замечено, что
древние мерянские поселения часто имеют
названия на бол или бал: Яхнобол на реке
Яхне, Пезобал – на Пезе, а вот Кибол почему-то на…
Каменке. Мелькнула мысль, а может быть. Каменка –
перевод, калька, мерянского слова. И
действительно: камень по-фински киви, а
по-марийски – кю.
Но что такое бол?
Наверное, деревня, поселение. И снова загадка:
одни ученые вспоминают венгерское фалу –
деревня, село и мансийское павыл – поселок,
другие думают об удмуртском пал – сторона. В
общем, сколько голов – столько ответов.
А как вам понравится такая
история. В Подмосковье есть речка Рандобож, а еще
Инобож, Кибож, Серебож. Это самое бож легко
объяснить из коми языка, где вож – ветвь,
приток, или из марийского вож – корень.
Например, Войвож по-коми – Северный приток, а
Лунвож – Южный приток. Только ни у коми, ни у
марийцев нет слова рандо. Зато есть у
карелов ранда – берег.
Что за мешанина? –
скажет читатель. Нет, это не мешанина. Это просто
особый финно-угорский язык: не коми, не марийский
и не карельский, а… мерянский.
Возьмем еще одну группу слов
– диалектизмы. Оказывается, в местных русских
говорах – ярославских и костромских –
сохранились отдельные мерянские слова, значение
которых точно известно. Представляете, какая это
ценность.
Так, если из озера течет
речка в другое озеро или в реку, то в старой
мерянской области эту речку и сейчас назовут
особым словом вёкса – протока. А рядом
выстроились: финское окса – ветвь, саамское
– вуаксэ – ответвление, коми вис
(основа виск–протока), марийское икса–
залив. Что предпочесть? Видите, какая трудная
задача.
А то есть еще в костромском
краю такое словечко – сорьез. Это название
рыбы хариус, или, как часто ее называют, харьюз.
Русское слово хариус, харьюз заимствовано
из финского харъюс. А сорьез? Сорьез,
наверное, мерянское слово. Но откуда здесь с?
Покопались ученые в справочниках и узнали, что
так должно было бы выглядеть саамское название
хариуса: там, где у финнов х, у саами – с
или ш. Только вот незадача: нет в саамском
языке такого слова. Хариус по-саамски– соавэл.
Мерянский язык –
удивительная загадка, и ученым еще долго
придется думать о том, где место Мери среди
финно-угров. Но кое-что мы уже знаем. Раньше
ученые только догадывались, что
меряне–финно-угры, теперь перед нами первые
мерянские слова, свидетели того, что Меря
говорила на финно-угорском языке. И пусть факты
противоречивы, все равно клубок потихонечку
будет распутываться – ведь мерянский язык еще
только начинают изучать.
А главное, поскорее собрать
бесценные мерянские слова – только они могут
открыть дорогу к прошлому.
**
А без прошлого – не будет и будущего..
Меря из Моравии а то и со стороны Франков. А то и немцев. Алеманы вообще то по французски немцы. Тысячелетия три четыре назад – одна народность была. И – походу – часть из Сибири, Прибайкалья, Урала.
пяток мерьских слов от Живого человека. Насколько в три года чего запомнил..
– Рыбка Снеток. (оз. Клещино – Плещеево. и Нерль) Язь, харьЮз – по русски с ошибкой, так это Мерянское слово. Ыз – походу верша, затон рыбий. колЫзо – рыбак. Теперь речка Клязьма – понятно, что земля рыбаков. Шига – (ух,_леший) колючая рыба, ерш по-русски. Кидай его – то есть швыряй, Кида – Рука по – мерянски. Бери обратно, на уху сойдет. Еще и шиха – ничего не осталось – крохи – было зерно а осталась мякина – шиха. Ошишивается собака, отряхивается, остался шиш (от денег). Пыра шатыра – скушает, то есть волк лесной. Шатер – не совсем на мере, скорее у южных соседей – Великой Булгарии, по русски – татар. Ну тыры пыры. Пырей трава – попробуй переложить по-русски без толмача. Даже изба – слово дерево это Па, камень – Ки- приставка. Русские переиначили, но слышно в названии Шаболовка, например. Маська или Кондо – ну наш тотемный зверь, он разумный, разве что чуток пугливый. Есть зверь еще сильнее, и совсем травоядный – забыл как – ну не принято называть и тоже тотем – вот каким сильным надо быть.. Несется по лесу, но не конь, крупнее.
хва пока, добавят еще много.
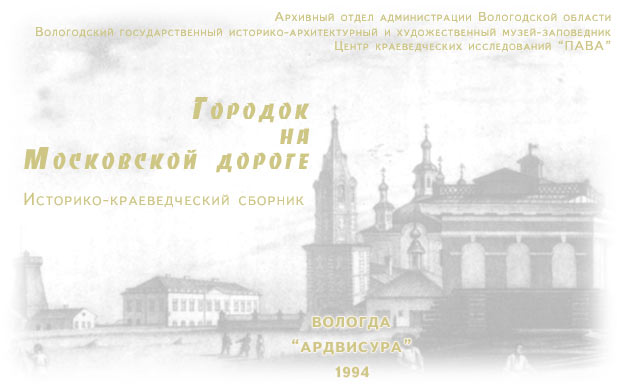
Г 70 Городок на Московской дороге:
Историко-краеведческий сборник. — Вологда:
“Ардвисура”, 1994. — 272 с.. 32 л., ил.
Ответственный редактор кандидат исторических наук А.В. Быков
Редакционная коллегия:
Ю.С. Васильев А.К. Малышева О.А. Наумова Зам. редактора Л.Д. Соколова
В технической подготовке рукописей принимали участие:
Л.В. Камазова Е.В. Крайнева С.Б. Просужих Л.Е. Розова Е.Б. Сорокина
В публикациях источников сохраняются авторские орфография и пунктуация
ВВЕДЕНИЕ
История этих мест начинается в те далекие времена, когда первопоселенцы, пришедшие на территорию современного Грязовецкого района, дали названия большим и малым рекам, холмам и урочищам. Именно тогда возникают первые местные топонимы.
Географические названия и скромный инвентарь древних стоянок — вот все, что осталось от людей каменного века, обитавших в междуречье Лежи и Комелы.
Известный топонимист, автор трех книг А.В. Кузнецов исследует некоторые грязовецкие названия, публикуя на страницах сборника топонимические этюды. Археолог М.Г. Васенина в обзорной статье пишет о раскопках в Грязовецком районе. Та и другая работы — своеобразная заявка на дальнейшее изучение проблем древнейшей истории края.
Несколько столетий назад между Ярославскими владениями и Вологдой стояли непроходимые леса, приют зверей да людской вольницы. Не было важнее проблемы для купца и крестьянина, служивого человека и просто странника, чем путь через дикий Комельский лес. Страшные легенды ходили здесь о придорожных разбойниках. Местное население тоже не отличалось кротостью нравов. Еще в XIV в. они выдворили из своих владений инока Димитрия, будущего святого Русской Православной церкви Дмитрия Прилуцкого.
В тех же местах был обнаружен и богатый клад, спрятанный у дороги около 1538 г. Сохранившаяся часть его находится в фондах Вологодского музея-заповедника. По-видимому, это была купеческая казна, хозяин которой “сгинул безвестно” от рук злоумышленников. Даже в XX веке нравы лежских жителей не отличались миролюбием, о чем свидетельствует краеведческий фельетон Ф. Либликмана “На берегах Лежи”, опубликованный в журнале “Север” в 1928 г.
Интересно, что эти земли, отвергнув одного подвижника, явили миру целую плеяду других. По данным священника-краеведа И. Верюжского в Грязовецком уезде в 1880 г. почиталось 12 преподобных, многие из которых вошли в собор общерусских святых.
В дупле старой липы, сохранившемся как святыня и по сию пору, жил в XIV веке инок Павел, основатель Павло-Обнорского монастыря. В Комельском лесу творили свои подвиги Сергий Нуромский, Арсений Комельский — также основатели монастырей. Материалы о них, кратко упомянутые нами во введении, будут достоянием следующих сборников. Настоящее издание украшено уникальными документами по истории еще одной обители — Корнильево-Комельского монастыря, подготовленными Ю.С. Васильевым и Н.Н. Малининой. Раздел книги дает представление о жизни этого северного монастыря со времени основания (“Житие преподобного Корнилия”) через века процветания (“Грамоты монастыря”, “Сотная книга 1628—1629 гг.”, “Отписная книга 1657 г.”) до трагических дней разорения (публикация И.А. Кожевниковой).
Список русских святых грязовецкого происхождения завершает епископ Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов. В сборнике публикуются уникальные материалы: родословие семьи Брянчаниновых (автор Л.Д. Соколова) и ряд неизданных документов об истории этого рода из Вологодского архива, подготовленных Л.Н. Мясниковой.
С возникновением Корнильево-Комельского монастыря дорога на Ярославль и Москву, петлявшая ранее по берегам р. Лежи, прошла другой стороной Комельского леса. С XVII в. она становится главным трактом края и получает название “Московской”. Среди владений монастыря постепенно выделяется починок Грязевитский, ставший в 1780 г. уездным городом Грязовцем.
О том, каким представлялся этот городок на московской дороге заезжим путешественникам XVIII—XIX вв., расскажет соответствующий раздел книги. Дополнит материалы ученых и беллетристов, описание фондов Грязовецкой земской управы, составленное Н.В. Фурашовой.
Большой раздел сборника посвящен этнографии и фольклору. Он завершает книгу, вводя в научный оборот великолепные памятники народной культуры. Издание проиллюстрировано фотографиями XIX — н. XX вв., показывающими различные стороны жизни и быта населения Грязовецкого уезда.
А.В. БЫКОВ
Настоящее издание подготовлено Центром краеведческих исследований “Пава” совместно с Государственным архивом Вологодской области, Вологодским музеем-заповедником, сотрудниками Вологодского архива новейшей политической истории и Вологодского пединститута. Авторский коллектив будет благодарен за отзывы на книгу и материалы, которые позволят продолжить работу над темами. Адрес для писем: 160000 Вологда, Советский пр., 48. Центр краеведческих исследований “Пава”.
QQQ
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
М.Г. ВАСЕНИНА
(г. Вологда)
ПЕРВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГРЯЗОВЕЦКОМ РАЙОНЕ
Грязовецкий район довольно поздно привлёк внимание археологов. Обследование района с целью выявления поселений и могильников древнего населения началось только в 80-е годы XX века. Отдельные случайные находки — небольшая коллекция керамики эпохи неолита и наконечник железного копья — были найдены местными жителями на берегах реки Комёлы и хранились в фондах Вологодского областного краеведческого музея.
В 1987 г. археолог Вологодского краеведческого музея И.Ф. Никитинский обследовал берега реки Комёлы и обнаружил 3 поселения II-I тысячелетия до н.э. в 6 км от д. Юрово. В 1989 г. он же провёл первые небольшие раскопки на поселении Комёла-III и рядом с ним открыл ещё одно поселение1.
В 1990 г. отрядом Северорусской археологической экспедиции под руководством автора обследованы берега рек Лежи и Комёлы2. На реке Леже у д. Зимняк были открыты 2 поселения II-I тысячелетия до н.э., на Комёле у д. Троицкое — средневековое поселение, и курган у д. Криводино. В 1993 г. проведены раскопки этого кургана, давшие исключительно интересный материал3.
В 1991 г. Грязовецким отрядом Северорусской археологической экспедиции под руководством И.П. Кукушкина обследовано оз. Никольское (Комёльское)4. На берегах озера были найдены 3 древние стоянки, названные по ближайшей деревне — Туфанка. И.П. Кукушкин обследовал реку Обнору от д. Сопелкино до г. Любим и участок реки Вохтожки, впадающей в реку Лежу, близко подходящий к реке Монзе. Целью этих работ было выявление предполагавшегося здесь перехода между Волжским и Сухонским бассейнами в эпоху средневековья через систему малых рек (очевидно, не случайно местность эта называлась Лежский Волок). Положительных результатов исследования не дали: ни поселений, ни могильников выявлено не было.
История заселения и освоения древним человеком нынешней территории Грязовецкого района начинается с эпохи неолита, примерно с IV тысячелетия до н.э.
Это достаточно позднее заселение объясняется климатическими условиями. На большей части современных Грязовецкого, Вологодского и Сокольского районов после таяния последнего ледника образовалось обширное озеро5. Оно охватывало всю нынешнюю Присухонскую низменность с оз. Кубенским, реками Вологдой, Тошней, Содемой, Пудегой. Время существования озера приходится наконец палеолита и мезолит. Поэтому на современных берегах этих рек нет и не может быть археологических памятников того времени.
Озеро имело сток в реку Шексну — там, где сейчас проложен Северо-Двинский канал, и далее в Волгу. Однако с течением времени воды озера образовали прорыв в долину нижнего течения реки Сухоны и далее в Северную Двину. Произошёл быстрый спуск озера, обнажилось дно. По дну осушенной озёрной равнины потекли современные реки: Сухона, Лежа, Вологда, Комёла, Тошня, Содема Пудега. Берега этих рек начинают осваиваться человеком. Как отмечалось выше, произошло это в эпоху неолита — примерно в V-IV тысячелетии до н.э.
Неолитические стоянки обнаружены на р. Вологде, на Верхней Сухоне, в нижнем течении р. Лежи. В Грязовецком районе найдены пока 2 стоянки эпохи новокаменного века. Обе располагаются на р. Комёле. Стоянка Комёла-Ш находится в 6 км выше по течению р. Комёлы от пос. Юрово. В раскопе, на стоянке, наряду с керамикой эпохи раннего металла, в нижней части культурного слоя была найдена неолитическая ямочно-гребенчатая керамика.
Материал со стоянки Туфанка-П представлен кремневыми отщепами, орудиями, скребками, а также фрагментами ямочно-гребенчатой керамики. Тогда же были открыты ещё 2 стоянки древнего человека: на северном берегу озера — Туфанка-1 — и на западном — Туфанка-III. Однако материал, найденный на этих стоянках — кремневые орудия, скребок, фрагменты ножевидных пластин — не позволяет точно датировать их более узко, чем в целом эпохой каменного века.
Население, заселившее в неолите эти места, пришло, по-видимому, из более южных регионов. Люди жили небольшими коллективами, селились на берегах рек у самой воды. Основные занятия человека того времени — охота и рыболовство. Охотились с помощью лука и стрел с кремневыми и костяными наконечниками. Рыболовство велось с помощью костяных крючков, гарпунов, вершей, сетей. Наиболее массовый материал со стоянок — ямочная и ямочно-гребенчатая керамика.
В Грязовецком районе обнаружено несколько поселений эпохи раннего металла — II-I тысячелетия до н.э. На Европейском севере, вследствие отсутствия месторождений цветных металлов, металлических изделий практически не было. В нашей области, например, из бронзовых предметов этого времени найдены всего 3 экземпляра — бронзовый топор на поселении Луковец в Череповецком районе — и 2 бронзовых наконечника копий под Белозерском. Эти изделия, несомненно, привозные с Урала. На всей территории Севера господствуют орудия труда и оружие, изготовленные из камня, кости и дерева. На стоянках этого времени, найденных в Грязовецком районе, собраны выполненные из кремня орудия, скребки, ножи, наконечники стрел, а также обломок шлифовальной плиты. В это время изменяется внешний вид глиняной посуды:
размеры горшков значительно уменьшаются по сравнению с неолитическими, на поверхности четко видны отпечатки грубой ткани, образующей своего рода “сетку”, отсюда название керамики — “сетчатая”. Фрагменты сетчатой посуды собраны на стоянках по р. Комёле. Несколько изменяется хозяйственный уклад — наряду с охотой и рыболовством появляется скотоводство. Пойменные луга по берегам Лежи и Комёлы представляли прекрасные пастбища.
Археологи и языковеды полагают, что население этих мест принадлежало к финно-угорской языковой группе, было близким по языку к таким современным народам, как вепсы, эстонцы, коми, карелы, марийцы.
Наибольший интерес среди памятников Грязовецкого района представляет курган у дер. Криводино. Он располагался на небольшой площадке, при впадении в р. Комёлу ручья Цывеж, в 2 км ниже по течению от д. Криводино. Насыпь имела слегка вытянутую форму, размеры 16,5 м х 20 м, высоту 1,5-1,8 м. В центре прослеживались 3 заплывшие старые кладоискательные ямы. С северо-запада и юга вокруг насыпи прослеживался ров — канавка, откуда брали землю для насыпи кургана. Нахождение здесь кургана является уникальным, так как к востоку от р. Шексны в бассейне р. Сухоны курганы неизвестны. В 1990 г. курган по размерам и форме насыпи предварительно был отнесён к IX-XI векам н.э. В 1993 году автором были предприняты раскопки кургана у дер. Криводино.
Курган, как указывалось выше, значительно повреждён кладоискательскими ямами. Насыпь, заметно возвышавшаяся над ровной поверхностью, привлекла, очевидно, внимание грабителей ещё в древности. Кроме того, возможно, тогда, как и сейчас, среди местного населения ходили легенды о зарытом в кургане кладе — о бочке золота, якобы лежащей под землёй. Старожил д. Криводино рассказывал: “Если лечь на курган и приложить ухо к земле, то услышишь гул (шум), как будто там машины работают.” Такие легенды о шуме, о золотом кладе типичны для многих мест, где есть курганные насыпи. Жители этой деревни вспоминали, что в детстве слышали, как местные мужики копали курган, однако ничего не нашли. Таким образом, ещё до раскопок было ясно, что надежды найти захоронение, тем более неразрушенное, ничтожны.
Современная вершина кургана была смещена к западу, так как центр насыпи был практически весь разрушен ямами. В древности, несомненно, он был выше. При снятии вершины насыпи, состоявшей из желтоватого суглинка, находок не обнаружено. Однако на склонах кургана первые находки найдены практически в дёрне, на глубине 15-20 см от поверхности. Это фрагменты лепной, “сетчатой” керамики, керамики со следами расчесов, есть фрагменты сосуда, орнаментированного в верхней части гребенчатым штампом (рис. 2.3).
Найдены изделия из кремня — больших размеров орудие и нуклеус— кусок кремня, с которого делали сколы для изготовления других орудий, а также 5 скребков и обломок оселка — камня для заточки и шлифовки железных и костяных предметов.
В восточной части насыпи был обнаружен целый сосуд — лепной, с круглым дном, высотой 10,3 см (рис. 2.1). В верхней части он орнаментирован круглыми ямками, образующими “пояс”. Горшок стоял вверх дном и был наполнен золой. Назначение сосуда, очевидно, ритуальное — он находился рядом с одной из могильных ям. По-видимому, сосуд с золой от сгоревших предметов, вещей был частью погребального обряда.
Наиболее интересные находки сделаны на северо-западном склоне кургана. Здесь в выбросах из грабительских ям найдены 2 железных предмета: нож (рис. 3.2) и навершие рукояти меча (рис. 3.1). Нож длиной 14,5 см имеет толстую спинку, слегка скошенное лезвие. Рукоять, которую обычно делали из дерева или кости, не сохранилась, так как в земле органические предметы быстро разрушаются.
Навершие рукояти меча — уступ для ладони, который вбивался с помощью клина в рукоять. Реконструкция показана на рис. 3.3. Навершие выполнено в виде рожек с шишечками на концах. Само лезвие меча, как достаточно ценный предмет, было унесено из могилы грабителями.
Мечи с аналогичными навершиями известны в Андреевском кургане на территории Мордовии6. В более близких регионах идентичное навершие найдено при раскопках А.Н. Башенькиным могильника Чагода-1 в Вологодской области7. Датируется оно последними веками до н.э. — первым веком н.э. Наличие меча свидетельствует о том, что в кургане был погребён мужчина-воин.
Интересный комплекс был открыт на западном склоне насыпи. Здесь лежали 2 глиняные льячки — специальные ковшички для разлива расплавленного металла (рис. 3.4-5). Они располагались вплотную друг к другу, ручками в противоположные стороны. Рядом стояла чаша диаметром 20-23 см, высотой 5,5-6 см из плохо обожжённой глины. На ней сохранилась часть крышки. В радиусе 1 метра от льячек находился развал горшка (см. реконструкцию на рис. 2;4). Высота сосуда около 11 см, стенки в верхней части вертикальные, слегка загнуты внутрь сосуда, затем резко сужаются к дну. На внешней поверхности видны полосы-расчёсы от заглаживания. Находка глиняных льячек свидетельствует о том, что здесь на рубеже эр существовало металлургическое производство и осуществлялась выплавка металла.
Под насыпью кургана были вскрыты 3 могилы. Они представляли собой подпрямоугольные ямы достаточно больших размеров: длиной 3,8-4,4 м, шириной 1,8-2,2 м и были заглублены от древней поверхности на 1,4-1,5 м. У одной из ям торцевые стенки были не вертикальные, а с уступами, образующими своего рода ступеньки или плечики. Следует отметить, что такие глубокие могильные ямы, с уступами-плечиками, характерны для более южных регионов, например, для степных сарматских племён. Однако во всех 3-х могилах были более поздние кладоискательские ямы. Грабители копали, точно зная место могил. Это подтверждает мысль, что курган подвергся разграблению ещё в далёкой древности, возможно, даже сразу после сооружения кургана, пока сохранялась память. “Клад” пытались найти неоднократно, не только сразу после сооружения кургана, но и позднее, в эпоху средневековья.
Вследствие большой влажности грунта не сохранились ни кости, ни какие-либо конструкции внутри могил (камера, гроб и т.п.) — они полностью перегнили, истлели. Лишь кое-где были зафиксированы их остатки — тонкие прослойки органического тлена. Вещи, которые находились в захоронениях, были либо взяты грабителями — как лезвие меча, либо просто выкинуты — как нож и навершие рукояти.
Рядом с курганом находилось поселение. Материал с поселения представлен большим количеством керамики — лепной, с отпечатками сетки на поверхности горшков, с разнообразными орнаментами — например, в виде ямок, “верёвочки” (рис. 2;3). Есть фрагменты миниатюрных сосудов, кремневые орудия, отщепы — отходы кремневого производства. По-видимому, те скребки, орудия, керамика, которые были найдены на склонах кургана, также относятся к поселению.
Подводя итог, следует отметить, что раскопки кургана у д. Криводино дали неожиданный и очень интересный материал. Курган относится к значительно более раннему времени, чем предполагалось — к последним векам до н.э.—первым векам н.э. Поскольку обряд погребения в курганах нехарактерен в это время для местных племен, возникает предположение, что насыпь сооружена под влиянием пришлого населения. Создание большого кургана, захоронения в глубоких могилах, наличие в них оружия — всё указывает на южные кочевнические племена.
Материалы раскопанного кургана имеют важное значение не только для изучения истории древнего населения Грязовецкого района или Вологодской области, но и для понимания историко-культурных процессов, происходивших в Восточной Европе на рубеже эр.
О раннесредневековой истории нынешней территории района почти ничего не известно. В письменных источниках нет сообщений об этих землях. Из археологических памятников открыто одно селище XII-XIV веков у д. Троицкое на р. Комёле. Поселение, в отличие от всех, упоминавшихся ранее, располагается на высоком берегу — 8-9 м над уровнем воды в Комёле, рядом — обширные пойменные луга. На поселении найдены закопчённые камни из очагов, фрагменты гончарной посуды, причём один из них с линейным орнаментом, характерным для древнерусской керамики. Исходя из имеющихся на сегодня данных, можно предполагать, что освоение территории современного Грязовецкого района древнерусским населением начинается довольно поздно, не ранее XII в., а скорее всего, с XIII в. и позднее.
Археологическое исследование Грязовецкого района только началось. Сотни ещё не открытых памятников хранят многие тайны местной истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Никитинский И.Ф. Отчёт Вологодской археологической экспедиции о работах в 1987 году. — Архив ВГИАХМЗ.
Никитинский И.Ф. Отчёт Вологодской археологической экспедиции о работах в 1989 году. — Архив ВГИАХМЗ.
2. Васенина М.Г. Отчёт о работах Верхнесухонского отряда Северорусской археологической экспедиции в Вологодской области в 1993 году. — Архив ИА РАН.
3. Васенина М.Г. Отчёт о работах в Грязовецком районе Вологодской области в 1993 году. — Архив ИА РАН.
4. Кукушкин И.П. Отчёт об археологических разведках в Грязовецком районе Вологодской области в 1991 году. — Архив ИА РАН.
5. Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озёр и внутренних морей Восточной Европы. — Л., 1975. — С.73-75.
6. Степанов П.Д. Андреевский курган. — Саранск, 1980. — С. 11,18,20. Табл. 7,17; 19,23; 24,14.
7. Башенькин А.Н. Отчёт о работах Северорусской археологической-экспедиции в Вологодской области в 1993 году. — Архив ИА РАН.
QQQ
А.В. КУЗНЕЦОВ
(с. Устье Печенгское)
ГРЯЗОВЕЦКИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
Необходимо признать, что Грязовецкий район относится к числу наименее изученных в топонимическом отношении районов Вологодской области. Косвенно этот факт можно подтвердить тем, что в книгах по топонимике области1 количество грязовецких топонимов очень невелико, а в других научных и краеведческих публикациях этимологии географических названий с территории этого района и вовсе единично. Такое положение дел можно объяснить, с одной стороны, общим состоянием в топонимике Вологодской области, где южные и восточные районы исследованы в целом слабее, чем западные и центральные, с другой стороны тем, что в пределах Грязовецкого района трудно выделить какой-то цельный и мощный топонимический пласт как в финно-угорской, так и в русской топонимии. На обозначенной территории перемешаны географические названия “всех времён и народов”, что и служило долгие годы препятствием к появлению сводной топонимической работы по Грязовецкому району.
Подобная топонимическая “мешанина” по-своему интересна — она лишний раз подтверждает известный факт расположения земель современного административного района на водно-волоковых путях из бассейна Волги в бассейн Сухоны (шире — из бассейнов южных морей в бассейны северных). Этнического постоянства здесь не было ни в древности, когда через водораздел прошло несколько финно-угорских народов, ни в средневековье, отличительной чертой которого было противоборство “новгородского” и “низовского” русских субэтносов, особенно сильно проявлявшееся именно на ключевых, волоковых участках путей.
Предлагаемая работа не претендует на полноту изложения; уже в самом названии её — “этюды”, заключена основная идея — дать этимологию грязовецких топонимов выборочно, по желанию автора, привлекая при этом по возможности необходимые исторические, географические и параллельные топонимические сведения. Таким образом, толкование отдельного названия не становится самоцелью, а является всего лишь промежуточной стадией на пути дальнейших комплексных топонимических исследований Грязовецкого и смежных с ним районов Вологодской области.
КУНДОЛА
Основу названия этой реки, впадающей в озеро Никольское неподалёку от истока Комёлы, можно сопоставить со словом из вепсского языка — “кунд” в значении “род, общество, группа людей”, что прекрасно сочетается с формантом “-ла”, который во всех прибалтийско-финских топонимических системах применялся для обозначения принадлежности какой-либо местности отдельному человеку или целому роду.
В подобных топонимах перед формантом “-ла” обычно стоит личное имя человека или название рода. Следовательно, название Кундола можно перевести как “Родовая земля”. Любопытно, что в связи с таким толкованием приобретает значимость следующая особенность: Кундола большей частью протекает вдоль склона древ-неозёрной котловины, поэтому правый склон её долины пологий, заболоченный и слабо освоенный, зато левый — крутой, обращённый к югу, к солнцу, к теплу, освоен человеком практически от истока до устья реки. Скорее всего, именно эта геоморфологическая особенность, имеющая важное значение для земледелия в северных, таёжных широтах и привлекала сюда людей издавна, а земледельческая значимость этих мест уже в дославянское время вынудила объявить её принадлежащей всему роду, отменив таким образом, частные приоритеты во владении земельными участками. Надо ещё сказать, что, судя по семантике, первоначально топоним Кундола не относился к реке, у которой, возможно, было другое название. И лишь с приходом в эти места русского населения Кундолой стали именовать только реку.
Все общие положения из этого “этюда” имеют прямое отношение и к следующей паре топонимов.
КОМЁЛА и КОМЬЯ
Комёла вытекает из озера Никольского (второе название которого Комельское) всего в нескольких стах метрах от устья Кундолы, по сути дела являясь как бы непосредственным продолжением последней. Интересно, что реки эти имеют не только чисто гидрологическую связь — их названия тоже встают в один топонимический ряд, где объединяющим элементом служит формант “-ла”. Итак, основа “ком-” должна была быть или именем одного человека (что маловероятно для реки длиной 62 км), или наименованием рода людей. Из прибалтийско-финских языков данная основа сохранилась в финском, где “кама” — “хлам, рухлядь”, а “каму” —“скарб, пожитки”.
Надо отметить, что переход звуков [а] — [о] широко распространён в топонимии Европейского севера России на контактах различных топонимических систем, поэтому основное внимание необходимо обратить на семантику приведённой выше основы. Могло ли в качестве названия рода выступать такое понятие, как “хлам, рухлядь, скарб, пожитки”, воспринимаемое сегодня лишь в некоем отрицательном смысле? Однако, не стоит забывать, что в древности, да ещё иноэтнической, такое понятие, наверное, имело совершенно не свойственный настоящему, более глубокий смысл — как обозначение всего имущества, принадлежащего роду.
У Комёлы есть ещё правый приток — Комья, довольно значительный в сравнении с другими комельскими притоками. Топонимы Комёла и Комья имеют несомненную связь друг с другом. Если первый из них можно перевести как “Местность рода Ком (Кам)”, то второй — “Река рода Ком (Кам)”, потому что формант “-ья” происходит от распространенного в прибалтийско-финских языках географического термина “ойя” — “небольшая река, ручей”.
Наконец, последнее замечание: финское “кама” и русское “хлам”, видимо, тоже связаны друг с другом. Скорее всего, первое слово является заимствованием из русского языка, а точнее — из древнерусского, что не препятствует проникновению его в топонимию. Замечено также, что в наименованиях родов в прибалтийско-финских этносах очень часто присутствуют именно заимствованные из других языков понятия.
ЛУХТА и ЛИХТОШЬ
Обе эти реки принадлежат к бассейну Комёлы: Лухта является левым притоком Комьи, а Лихтошь — левым притоком непосредственно главной реки, что как и в рассмотренном случае Комёла — Комья, сразу предполагает наличие какой-то топонимической обусловленности. Для дославянского населения этой территории семантика топонимов Лухта и Лихтошь говорила, конечно же, о чём-то большем, чем говорит нашим современникам, воспринимающим эти географические названия лишь в качестве удобных ориентиров в пространстве.
“Лухт” в языке вепсов означает “лужа, заводь на реке, старица, заливной луг”, в общем, применяется в качестве термина для пойменного комплекса реки в целом. Переход [у] — [и] хоть и редко встречается на контакте прибалтийско-финской и русской топонимических систем, но возможен. Формант “-ошь” в названии Лихтошь может иметь уменьшительное или подчинительное значение.
Чисто с географической точки зрения рекой со старицами и заливными лугами можно назвать только Лухту, где всё это имеется в наличии, а вот Лихтошь с крутосклонной долиной и минимальной поймой (эти места даже называют образно “Вологодской Швейцарией”) имеет такое название, возможно, только в результате переноса самого топонима без семантической связи с объектом наименования.
Продолжая тему обладания этой местностью некого рода Ком (Кам), следует признать, что и топонимы Лухта — Лихтошь тоже, очевидно, входили в систему названий, созданных во время пребывания здесь упомянутой этнической ячейки (не совсем ясно, какой же конкретно этнос представлял род Ком (Кам) — или весь (вепсов) или близкую последнему чудь заволочскую?).
МАХРЕНЬГА
Так называется ещё один правый приток Комёлы, впадающий в неё неподалёку от истока. Формант “-еньга” принято считать чудским по происхождению, а основа “махр” имеет явное соответствие с вепсским “мягр” — “барсук”. Подобное слово (возможно, что именно с теми фонетическими изменениями, как в топониме Махреньга) было и в забытом сейчас языке чуди заволочской. Есть мнение, что топонимы с наименованиями различных видов животных в основе могли в древности означать не обязательно обилие данных представителей фауны, а быть названием опять же родов людей, как и в случае Кундола, Комёла. Таким образом, Махреньга — “Барсучья река”, или “Река рода Барсука”.
ТЮВЕНЬГА и ПУХИТЬ
Тювеньга впадает в Соть справа, а Пухить — слева. Соть, в свою очередь, чуть ниже устья Пухити отдаёт воды Никольскому озеру. В вепсском языке есть слова “тюведус” — “окраина, край” и “тю-ви” — “комель, ствол дерева”. В принципе, любое из приведённых значений могло лечь в основу топонима Тювеньга, однако я бы отдал предпочтение всё же второму — “Река, заваленная стволами деревьев”. Дело в том, что похожий семантический мотив просвечивает и в названии реки Пухить: в языке вепсов “пу” — “дерево, дрова”, а форма “пухут” является уменьшительной от “пу” (кстати говоря, ещё один пример возможного звукового перехода [у] — [и] (см. Лухта и Лихтошь).
И Тювеньга, и Пухить большей частью протекают по сильно заболоченному плоскому днищу древнеозёрной котловины (жалким остатком этого огромного послеледникового водоёма является акватория Никольского озера), русла их состоят из цепочки омутов с почти стоячей водой. На отдельных участках даже в наше время существуют завалы из упавших деревьев, для ликвидации которых (как это бывает на большинстве наших рек) скорость течения в руслах Тювеньги и Пухити явно недостаточна.
Стоит упомянуть ещё, что в реке Соть в старину добывали мореный дуб. “Стволы его достигают 10 вершков. Употребляется даже для фундамента домов, а чаще для лож (к ружьям), из него делают околодки (к рубанкам), полозья к саням, лопатки для точки кос”, — писал в 1927 году краевед, посетивший Никольское озеро2. В последнем случае имеется в виду инструмент для заточки кос, называемый лопаткой, ручку которой делали из мореного дуба.
В заключение этюда отмечу, что нередко на картах и в письменных источниках3 название Тювеньга может быть преподнесено в форме Тювенька, которую надо считать русским (и не очень удачным) фонетическим вариантом.
ЦЫВЕЖ
Цывежем называется небольшой левый приток Комёлы. В Вологодской области реки с похожим названием Сивеж есть в Бабушкин-ском, Тотемском, Тарногском, Нюксенском и Великоустюгском районах. Скорее всего, в основе топонима лежит слово, родственное вепсскому “сювя”, эстонскому “сюва”, финскому “сувя” — “глубина, глубокий”. Так как в прибалтийско-финских языках звуков [ц] и [ы] нет, естественным будет выглядеть предположение, что форма Цывеж появилась на свет уже в недрах русской топонимической системы после серии фонетических изменений.
ЛЕЖА
В топонимической литературе о происхождении названия этой самой большой реки Грязовецкого района, значительном правом притоке Сухоны, до последнего времени практически не говорилось ничего4. Моя версия сводится к тому, что данное название во время перехода из “родной” топонимической системы в русскую потеряло согласный звук, стоявший в конце основы, перед формантом “-жа”, имеющим в прибалтийско-финской топонимии собирательное значение. Первоначальный вариант топонима восстанавливается как Леджа (аналогичное название есть в Бабушкинском районе) или как Лепжа. В первом случае перевод с вепсского будет звучать “Песчаная”, во втором — “Ольховая”. Для окончательного отбора одной из версий необходимы дополнительные сведения.
КОХТЫШ
Это левый приток Лежи. Форма топонима выдаёт его прибалтийско-финское происхождение. В языке ближайшего к Грязовецкому району современного народа этой языковой группы, вепсов, слово “кахтен” имеет значение “двоякий”, а “кахтишти” — “дважды”. Есть ещё и более близкое слово “кохт” — “место”, аналогичное финскому “кохта” — “место, положение” и родственное эстонскому “кохтума” — “встречаться”. Следовательно, семантика названия Кохтыш может включать в себя и такое понятие, как “Место встреч”.
ЁДА и ЁДЛАЗ
У финно-угорских названий, начинающихся в условиях русской Топонимической системы с гласного звука, в древности нередко в начале топонима мог стоять нечётко произносимый согласный или краткий гласный звук. В вепсском языке “йода” — “пить”, в эстонском “йоодав” — “питьевая”. Название речки Ёдлаз, левого притока Еды, оформлено формантом, имеющим, возможно, притяжательный смысл. Остаётся сказать, что сама Еда впадает в Лежу слева.
СЕНЬГА
Один из самых крупных притоков Лежи. Как и Еда, впадает слева. В вепсском языке “сен” — “пластинчатый гриб, пригодный для соления”. Возможный перевод “Грибная река” трудно мотивировать уже хотя бы тем, что природные условия по берегам семидесятисемикилометровой реки очень разнообразны. Есть другая версия относительно происхождения топонима Сеньга. В русских диалектных заимствованиях из финно-угорской лексики термин “сеньга” означает “жнивье”5. Правда, конкретный этнический источник заимствования так и не установлен, но обращает на себя внимание почти сплошная земледельческая освоенность долины реки Сеньга, что свидетельствует о давности начала освоения этого ландшафта.
ШОХМА и другие
Среди рек, относящихся к бассейну Лежи в пределах Грязовецкого района, выделяется ряд названий с формантом “-ма”: Низма, Воткома, Пешма — правые притоки Лежи, Шохма — левый. На востоке Вологодской области, где в древности локализуется местоположение пермского этноса (предков современных коми) топонимы с указанным формантом встречаются довольно часто6. По иному мнению, в Костромской и других поволжских областях, формант “-ма” может указывать на мерянское происхождение географических названий7. В Грязовецком районе вероятность мерянского происхождения очень велика.
Язык этого финно-угорского этноса утрачен почти полностью, поэтому этимологическое исследование названных выше топонимов возможно в ограниченном объёме. Единственное, что стоит предложить в качестве версии для названия Шохма — вепсское (при условии наличия похожего слова в языке мерян) “шоху” — “шуга, мелкий лёд во время осеннего ледостава”. Данное слово было заимствовано затем лексикой русского языка, чем и объясняется звуковое сходство.
В отношении основы топонима Пешма можно сделать сравнение с распространённым в языках дославянских народов нашего края словом “пеза” — “гнездо, логово, берлога, выводок, помёт”. Для мерянского языка его реконструируют в форме “пезе”, что очень близко основе топонима Пешма8. К основам названий рек Низма и Воткома похожих лексем не подобрано.
ШИЛЕКСА
Второй формант, игравший роль словообразовательного суффикса, по которому можно выделять мерянские топонимы— “-кса/-кша”. Шилексой называется небольшой левый приток реки Великой, протекающей на востоке Грязовецкого района. В мерянском языке “шола” — “вяз”9. Это дерево, относящееся к разряду широколиственных, на юге Вологодской области встречается в виде небольших рощ по заболоченным берегам рек. Шилекса почти на всём протяжении своего течения как раз и окружена такого типа вязовыми рощами.
В топонимике есть такое понятие — калька. Это когда два географических названия из разных этнических топосистем переводят взаимно друг друга. Обычно, если одно из названий пары русское и имеет ясную семантику, то этимология второго топонима (допустим, мерянского) может быть принята без развёрнутых доказательств. В двух километрах выше устья Шилексы в Великую впадает ручей Вязовщик. Мерянско-русская калька Шилекса — Вязовщик служит наглядным доказательством тесных контактов этих этносов на каком-то временном отрезке, заставляет искать и другие подобные калькированные топонимы в пределах Грязовецкого района, где достаточно большое количество русских названий малых рек и ручьёв могут быть переводами с мерянского языка. Например, притоки той же Великой — Лебяжка и Каменка. По моему мнению, вероятность того, что первоначально это были мерянские топонимы, очень велика, но для окончательного вывода не хватает кальки, как в случае Шилекса — Вязовщик или Куза — Ельник (см. ниже).
КУЗА и ЕЛЬНИК
Большей частью река Куза протекает по Любимскому району Ярославской области, но истоки её всё же находятся в Грязовецком районе. Финское “кууси”, эстонское “кууск”, вепсское “куз”, марийское “кож” в переводе означает “ель, еловый лес”, поэтому семантика топонима Куза особых затруднений не вызывает. Сложнее решить вопрос, какой из финно-угорских этносов создал это речное название?
В прибалтийско-финских топонимических системах название с подобной основой звучало бы как Кузеньга или Кузюга, а вот для мерянской топонимии отсутствие форманта является очень характерной чертой (в той же Ярославской области, у границ Грязовецкого района есть реки Носа, Меда, Репа, Кода, Божа). В топонимической литературе есть упоминание о реке Тома в Солигаличском районе Костромской области (финское “тамми”, эстонское “тамм”, марийское “тум”, мерянское “тома” — “дуб, дубовая”) как типичном примере мерянского топонима10, в то время как на остальной территории Европейского севера России, в местах, занятых прежде финно-угорскими этносами, встречаются топонимы Томой, Томанга, Тамуга.
Куза — левый приток Обноры, тоже мерянский топоним11, выше по течению ее находится устье правого притока с любопытным названием Ельник. В русской топонимической системе такая форма топонима без постороннего вмешательства появиться просто не могла — было бы, скажем. Еловая или Ельница. А вот Ельник — это прямой перевод, калька мерянского топонима Куза.
Итак, Грязовецкий район на топонимической карте Вологодской области, несомненно, может “блистать” двумя прекрасно сохранившимися мерянско-русскими кальками — двумя “Вязовыми” и “Еловыми” реками. “Растительная” семантика калькированных названий, как мне кажется, не случайна — переводу в первую очередь подвергались наиболее простые, наиболее понятные на уровне обыденного языкового контакта двух этносов топонимы.
КЕБАС
Одна из деревень Заемского сельсовета носит необычное для русской топосистемы название Кебас. Наверное, около деревни протекает ручей с таким же именем. У ручья оно первично, у деревни — вторично. В вепсском языке “кеваз” — “весна, весенний” (у вепсов нет различия между формами существительных и прилагательных). Почему на место согласного звука [в] в исходной основе появился в современном топониме звук [б]? Дело в том, что в лексике финно-угорских языков звук [б] встречаются очень редко, а для русского языка чередование [б] и [в] в заимствованных словах и топонимах является отличительной чертой: в качестве примера — название озера Бех-озеро (в Вытегорском районе) — от исходного вепсского “вехк” — “растение вахта”12.
Крайне показателен и другой звуковой переход — [з] в [с]. В писцовой книге конца XVII века деревня эта в Обнорской волости Вологодского уезда зафиксирована как Кебаз13. Видимо, переход конечного согласного произошёл уже после означенного времени.
Мотивировкой топонима Кебас могло послужить, скажем, такое обстоятельство, что ручей с этим названием раньше соседних водотоков вскрывался весной от льда, ведь по-вепсски “кевазвези” — “половодье, вешняя вода”. Другой вариант мотивировки сопоставим с каким-то сезонным, наверное охотничьим, поселением.
КОРНА, ВОХТОГА и УХТОМА
Вначале — краткие характеристики географического положения этих рек: Корна — правый приток Великуши, Вохтога — правый приток Лежи, Ухтома — левый приток Согожи (уже в Ярославской области).
В отношении топонима Корна стоит отметить, что, по моему мнению, это одно из самых древних географических названий не только на территории Грязовецкого района, но и во всей Вологодской области, наряду с Сухоной, Кубеной и другими топонимами, созданными ещё в каменном веке древнейшим индоевропейским этносом. Язык индоевропейцев не сохранился, но, по мнению большинства лингвистов, очень похож на него санскрит — древнеиндийский литературный язык. В санскрите слово “кара” имеет значение “движущийся, передвигающийся, идущий”, а “карана”, более близкое к топониму Корна, — “путь, дорога”14.
Если обратиться к подробной карте междуречья Волги и Сухоны на участке от Костромы до Вологды, то нетрудно отметить — кратчайший водно-волоковой путь соединяет эти две речные системы именно через реку Корну. Её верховья близко подходят к верховьям Еды, а сухопутный волок между этими реками имеет расстояние всего лишь 3 километра. Таким образом, топоним Корна со значением “путь, дорога” является своеобразным топонимическим индикатором одного из древнейших водно-волоковых соединений.
В восточной части Грязовецкого района в старину существовала волость Лежский Волок или Лежсковолокская, охватывавшая земли в междуречье Лежи, несущей свои воды в Сухону, и Монзы, соединенной через Кострому с Волгой. Но волок находился не прямо между Монзой и Лежей, а шёл от Монзы к Вохтоге, правому притоку Лежи.
Вохтога протекает на самом ключевом участке этого водно-волокового пути. Основу названия реки следует сопоставить с финно-угорским термином “ухт-/вохт-”, обозначавшим как раз “волок, перетаск лодок с одной реки на другую”15. Правда, есть ещё этимология топонима Вохтога — “Медвежья река” (финское “охто” — “медведь”)16, но в свете уникальности географического положения Вохтоги на водоразделе двух великих речных бассейнов и достоверных сведений об использовании данного волока ещё в русское средневековье это толкование отходит на второй план.
Итак, первоначально путь с Волги на Сухону был, видимо, освоен индоевропейцами по кратчайшему направлению через реку Корну, но впоследствии, когда главенствующая роль в этом крае перешла к финно-угорским этносам, а объём перевозок возрос, был, вероятно, найден новый водно-волоковой путь через реку Вохтогу (которая и получила тогда своё название) — чуть длиннее, но удобнее, так как проходил по более полноводным рекам. Интересно отметить тот факт, что русское население восприняло финно-угорский путь с Монзы на Лежу без изменений, что и нашло отражение в названии волости Лежский Волок, на территории которой в XVII в. была деревня с таким показательным названием, как Переволока (Хрулёв починок). Стоит отметить, что в данной волости тогда же насчитывалось 7 Погостов17 — религиозных и административных центров, которые, будучи нанесенными на карту, чётко показывают основное направление движения по монзенско-вохтогско-лежскому водно-волоковому пути.
На Европейском севере России часто встречается и такая форма “волоковой” основы как “ухт-/уфт-”, представленная в топонимах Ухта, Ухтома, Уфтюга. Чаще всего реки с подобными названиями в верховьях также имели сухопутный волок на соседнюю реку18. В Грязовецком районе начинается река Ухтома, которая относится к бассейну Волги (в Ярославской области сливается с Согожей, а та впадает в Рыбинское водохранилище). Близко к истокам Ухтомы подходит Соть с мелкими притоками (Королёвка и другие) — это уже бассейн Сухоны. Скорее всего, переволока находилась около деревень Кобяково и Воздвиженское — религиозный центр на волоке, здесь притоки Ухтомы и Соти начинаются друг от друга на расстоянии лишь в один (I) километр.
Справедливости ради отмечу, что в русских народных говорах отмечено заимствованное в финно-угорской языковой среде слово “ухта” — “вода. выступившая на поверхность льда”19, однако, повторяюсь ещё раз, большинство рек с рассматриваемой основой имеют настолько ярко выраженные черты водно-волоковых путей, что толкование с использованием диалектного слова особой поддержки вызвать не может.
Таким образом, в топонимии Грязовецкого района сохранились
следы использования представителями различных этносов на протяжении почти всего исторического периода трёх водно-волоковых путей: между Ухтомой и Сотью, между Корной и Едой, между Вохтогой и Монзой.
МОНЗА
Один из самых загадочных топонимов. По современной форме названия этого правого притока Костромы трудно предполагать даже его этническое происхождение, не говоря уже об этимологии. Единственная версия, которую я могу обнародовать, связана с писцовой книгой Вологодского уезда конца XVII в., где в волости Лежскии Волок это речное название зафиксировано в форме Монча. Если мы имеем дело не с опиской и не с опечаткой, то топоним Монча в первоначальном варианте находит себе пару в виде названия гор Монче-Тундра на Кольском полуострове, около которых в 1937 году вырос город Мончегорск21. На языке саамов (лопарей) “монче” -“красивая”. Возможно. Монча-Монза в Грязовецком районе – одно из немногих названий лопарской топонимической системы на юге Вологодской области.
ТЮТЕШЬ
Ручей с таким названием является левым притоком Ухтомы.
В русской диалектной лексике на севере России употребляется земледельческий термин “тютижи” – “способ удобрения почвы с помощью сжигания кустарника”22. По мнению лингвистов, это слово является заимствованием из какого-то финно-угорского языка. Из современной лексики нечто похожее можно найти только в языке коми где “туту” – “пеньки мелкого кустарника на лугах после косьбы”. Однако, источником топонима Тютешь помимо русского диалекта мог быть и мерянский язык, близкий коми (а точнее -древнепермскому). Словарный состав языка коми в состоянии помочь и в толковании ещё ряда топонимов Грязовецкого района предположительно мерянского происхождения (см. ниже).
ПОЧКА и ТУТКА
Формантное оформление (“-ка”) названий рек Почка и Тутка (левый приток Лежи и правый приток Костромы) вполне соответствует русской топонимической системе. А вот основы имеют явно заимствованный характер. О значении термина “туту” писалось только что, а вот основу “поч-” можно сравнить с коми “потш” — “жердь”, “потшом” — “загораживание, городьба”.
Возможно, подобная основа существовала и в мерянском языке, особенностью которого было то, что в нём уживались приметы как западно- (прибалтийско-финские языки), так и восточно-финской (пермские языки) лексики. Мотивировать основу “поч-” в отношении названия реки можно тем, что в русле её, наверное, устанавливались перегородки для ловли рыбы, известные в русском языке под наименованием “езов”, “заездков”.
СОТЬ
Река эта впадает в Никольское озеро. В соседней Ярославской области другая Соть вливается в Костромской разлив Горьковского водохранилища, а Сить — в Рыбинское водохранилище. Ещё одна Сить протекает по Харовскому району нашей области, отдавая свои воды реке Кубене. В “Кратком топонимическом словаре” название Сить толкуется с помощью русского диалектного слова “ситник” — “камыш”23, а в “Словаре народных географических терминов” есть “сито” — “поросшее камышом и залитое водой место”24.
Грязовецкая Соть в точности отвечает “поставленным” условиям: почти полностью она протекает по плоскому заболоченному днищу древнеозёрной котловины. Заросли камыша, ситняга и других болотных растений в некоторых местах почти полностью скрывают собой русло реки. А вот другие Сити и Соти из перечисленных выше и совсем не названных чаще всего не болотные, а обычные северные реки, поэтому для них первая версия по чисто географическим условиям не очень подходит. Да и бесформантность топонимов указывает скорее на связь с дославянскими топонимическими системами, как в паре Куза — Ельник, рассмотренной ранее. Поэтому я предполагаю мерянское происхождение названия Соть, (а вот Сить вполне может быть самостоятельным топонимом, иметь иную этимологию) а семантически его следует сблизить с коми “сотны” — “жечь, палить”, “сотчом” — “гарь, горевший, выгоревший”. Мотивировка топонима могла отражать наличие лесных или торфяных пожаров (гарей) по берегам реки.
ВЕЛИКУША и ВЕЛИКАЯ
После индоевропейских, финно-угорских и калькированных географических названий перейдём теперь к русским топонимическим этюдам.
В “Кратком топонимическом словаре” названию реки Великой в Псковской области посвящена следующая строка: “Слово “великий” в древнерусском языке означало “большой”25. Подробнее говорится об этом топониме в другом исследовании: “Название реки Великой, как иногда считают, является переводным из прибалтийско-финских языков. Для такого предположения имеются некоторые основания; действительно, один из крупных притоков Великой носит название Иса (часто пишут Исса), что можно сопоставить с финским-суоми “исо” — “большой, великий”.
Весьма замечательно, что р. Иса берёт начало в оз. Дедено или Дедово, аэто при наличии финского “исойся” — “дедушка” (буквально: “большой отец”) получает особый смысл, подкрепляя указанное объяснение. Однако, имеется и другая возможность. Дело в том, что в договорах Пскова с Юрьевским епископатом и Ливонским орденом Псковское и Чудское озёра объединяются одним именем: “озеро Великое”. Естественно, что наибольшая река, в него впадающая, могла получить также наименование Великой26.
Ну, а как же быть с названием грязовецкой Великой — правым притоком Лежи? Среди других рек, которые впадают в Лежу, она не выделяется ни длиной (больше её и Комёла, и Сеньга), ни шириной, ни чем-нибудь другим, что подвергалось бы измерению. Нет в бассейне Великой или в ближайших окрестностях, по моим сведениям, и каких-либо финно-угорских топонимов, калькирующих её название.
Впрочем, известность у реки Великой есть, и связана она не с географическими особенностями, а с христианским миссионерством, когда в XII-XIV веках в таёжную Русь начали проникать первые проповедники веры Христовой. Более 600 лет назад в устье реки Великой устроил себе келью Дмитрий, впоследствии известный как святой’ Русской Православной церкви Дмитрий Прилуцкий. При слиянии двух рек он основал храм Воскресения Христова, что нашло отражение в названии современного села Воскресенское, стоящего на том месте.
В житии святого, составленном значительно позднее его миссионерских подвигов, название реки Великой упоминается уже в связи с самим фактом поселения Дмитрия, хотя это ещё не означает, что в то время река не могла носить имя на языке одного из финно-угорских этносов. Но оставим вопрос о возможности кальки, тем более, что он ничем конкретным не подтверждается и попробуем разобраться— не было ли в древнерусском языке у слова “великий” какого-то иного значения?
Достаточно известен следующий ономастический ряд — Господин Великий Новгород, Ростов Великий, Великий Двор (название нескольких десятков деревень в пределах современной Вологодской области), великий князь, великий стол (то есть место в государственной иерархии, занятое великим князем). Из жития Дмитрия Прилуцкого известно, что он до прихода на вологодскую землю был достаточно близким человеком великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. В духовной грамоте князя от 1389 года есть следующие строки:
“А се даю своей княгине из великого княженья у сына у своего у князя у Василия ис Переяславля Юлку а ис Костромы Иледам с Комёлою27…” Река Великая как раз находится между Иледамом и Комёлой и также могла находиться во владениях великого князя, с чем, собственно говоря, возможно, и связано происхождение её названия.
На юге Грязовецкого района течёт ещё река Великуша, левый приток Обноры. Судя по форме топонима, он, в отличие от названия реки Великой, вряд ли напрямую связан с владениями великих князей. Скорее всего, здесь семантика действительно отражает лишь географическую особенность положения Великуши в речной системе Обноры. Интересно, что при слиянии Обноры и Великуши первая (главная река) имеет длину в три раза меньшую, чем вторая. По сути дела, истоком Обноры надо бы считать именно Великушу или “Болышуху”, то есть самый большой из истоков Обноры. Русское население в своё время тонко подметило эту особенность реки, отразив её в названии. Как всегда в подобных случаях встаёт вопрос о дославянском названии реки, которое, конечно же, было. Возможно, местные жители ещё хранят прежний топоним.
БОЛЬШИЕ ДВОРИЩА
Если ехать от Грязовца в восточном направлении, не миновать деревню Большие Дворища. В стороне от большой дороги на речке Черновке была и деревня Малые Дворища, сейчас нежилая. В этимологическом словаре названий населённых пунктов Вологодской области есть главка о деревне Дворище Нюксенского района28. Топоним этот происходит от древнерусского поселенческого термина “дворище” — “место, где когда-то был двор” или “место, где когда-то была деревня”, так как в старину понятия “двор” и “деревня” нередко совпадали29.
Однако, в отношении грязовецких Дворищ всё может быть не так просто: в писцовой книге Комельской волости конца XVII века рядом записаны следующие названия деревень — Большие Дворцы, Малые Дворцы и Дворища30. Термин “дворцы” в русской топонимической системе на территории Вологодской области, по моим наблюдениям, был связан с монастырским землевладением или с владениями Большого Дворца (царскими землями), поэтому не очень ясно, когда произошло превращение Дворцов в Дворища и куда исчезли Дворища XVII века?
НИКОЛА-ПЕНЬЕ
В Заемском сельсовете есть деревня с удивительным названием Никола-Пенье. В старину в официальные документы она записывалась довольно строго, как того и требовали православные нормы “приличья” — село Никольское31, но в народе всегда говорили просто — Никола-Пенье. Этот религиозный центр возник на окраине волости, на месте подсеки, где пни от срубленных деревьев не выкорчёвывали, а оставляли на пашне до тех пор, пока у них не подгниют корни. Интерес в этом топониме представляет сам факт сочетания религиозного центра с участком нового освоения, так как обычно погосты создавались на староосвоенных землях. В данном случае, по-видимому, сказалась близость Введенского Корнильевско-го и Спасо-Нуромского монастырей.
НОВГОРОДОВО
Такие топонимы всегда привлекают внимание исследователей. В Вологодской области несколько деревень носят названия Новгородово, Новгородовская32, а в Грязовецком районе они находятся в Обнорском и Сидоровском сельсоветах, в старину, соответственно, в волостях Обнорской и Лежский Волок. Не вызывает сомнения мотивировка подобных топонимов — они не просто основаны выходцами из Новгорода Великого, а отмечали своими именами права этого города на земли, на владения. В данном случае интерес представляет сам факт нахождения деревень с “новгородскими” названиями на участках водно-волоковых путей из бассейна Волги в бассейн Сухоны, контролировавшихся издавна и всегда ростовскими и московскими княжествами, извечными противниками Господина Великого Новгорода на северо-востоке Русской равнины. Такие топонимы, как Новгородово на землях современного Грязовецкого района могли появиться только во время некоторого ослабления власти его соперников, предположительно — в годину монголо-татарского нашествия.
СТАРОЕ
Село Старое Пухитского сельсовета находится на одной из террас Никольской озёрной котловины. Населённые пункты с относительными по времени возникновения названиями всегда существуют попарно. Например, в Усть-Кубинском районе, в Филисовском сельсовете на берегу реки Кубены стоит село Старое, а в 4 километрах от него — село Новое; или в Междуреченском районе, в Старосельском сельсовете село Старое расположено в 3 километрах от Нового.
У села Старого в Грязовецком районе в настоящее время такой пары нет, но нет сомнений, что село Новое было и здесь. Действительно, в писцовой книге Вологодского уезда Комельской волости в конце XVII в. оно зафиксировано33.
БЕРДЯЙКА
В библиографическом указателе “Василий Иванович Белов”, подготовленном к 50-летнему юбилею писателя, раздел “Публикации в периодической печати и коллективных сборниках: Повести, рассказы, очерки” открывается произведением “Деревня Бердяйка” в .№ 3 журнала “Наш современник” за 1961 год34. Именно с этой скромной повести начался путь известного теперь всему миру прозаика.
В списке населённых пунктов Вологодской области всего одна деревня носит название Бердяйка — в Заболотском сельсовете Грязовецкого района35. Русский народный географический термин “бердо” имеет значение “небольшой покатый холм”36, но в данном случае интересен сам факт употребления в литературном произведении редкого топонима — почему писатель выбрал именно его?
Скорее всего, В.И. Белов бывал сам в этой деревне, так как “в 1958 году его избрали первым секретарём Грязовецкого райкома комсомола”37, в должности которого начинающий литератор побывал, наверное, в большинстве сельсоветов района. Вот только чем ему так запомнилась Бердяйка?
НИКОЛЬСКОЕ
Речь пойдёт о названии самого большого озера в Грязовецком районе. Остаточные послеледниковые озёра, похожие на Никольское, есть и в других центральных районах области: в Харовском — Катромское (из него вытекает река Катрома), в Сямженском — Шиченгское (вытекает река Шиченьга), в Тотемском — Сондугское (впадает река Сондуга). Нетрудно заметить, что все перечисленные озёра носят имена, производные от речных названий. Никольское озеро в этом отношении исключения не представляет — его второе название Комёльское, по реке Комёле, уносящей озёрные воды в Лежу.
Когда-то на восточном берегу озера, около истока Комёлы, стоял Никольский Озерский монастырь, основанный в 1520 году монахом Стефанием, в поисках уединения пришедшим в эти глухие места из Ярославской земли, и впоследствии, при возведении его в чин святого Русской Православной церкви, получивший прозвание Комельского.
Местное предание говорит, что на месте кельи, собственноручно выстроенной Стефанием, после его смерти была возведена деревянная церковь. Она несколько раз горела, поэтому после очередного пожара в XIX в. на берегу озера поднялась каменная церковь с высокой колокольней. Сразу после революции в 1918 г. в монастыре разместилась коммуна, названная в честь Фридриха Энгельса. Интересно, что коммунары пытались “модернизировать” и название самого озера: в своих документах они неизменно именуют его Николо-Энгельским38. Что ж, довольно примечательная попытка совместить в одном топониме имя святого христианской веры и основоположника коммунистического учения!
Рассмотрим ещё ряд любопытных географических названий из ближайших окрестностей Никольского озера.
ОЗЕРИНА — это плоская заболоченная и труднопроходимая местность вокруг озера, ограниченная со всех сторон уступами террас, на которых цепочками расположились деревни и сёла. На Озерине же из населённых пунктов были только монастырь и группа деревень, известных под общим наименованием ПОДОЗЕРИЦА (Починок, Басино, Пищалино, Феклица, Туфанка и Иван-Богослов — часть из них сейчас заброшена).
Скопление топонимов — Озерина, Подозерица, Никольский Озерский монастырь — не говорит ли оно о том, что в древности озеро Никольское (Комёльское) называли просто… Озеро?! Кстати говоря, и у озёр Катромского, Шиченгского и Сондугского тоже нет “настоящих” названий. На своих территориях это единственные крупные озёра, поэтому вполне возможно, что и для них подходило простое, но по-своему многозначное имя Озеро (с большой буквы). Ну, а как же назывались эти водоёмы у финно-угорского населения нашего края? По-моему, ответ может быть только один: тоже Озеро, но только на своих языках.
Заимствованная лексика положена в основу топонимов СОГРА — название леса в устье реки Соть, ЛАМАНСКОЕ ОЗЕРО — единственный залив Никольского озера. В “Словаре народных географических терминов” о “согре” говорится следующее: “Труднопроходимая сырая местность с зарослями кустарников и редколесьем”39. Термин этот пришёл в русскую лексику из какого-то финно-угорского языка.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Чайкина Ю.И. Географические названия Вологодской области. Топонимический словарь. — Архангельск, 1988; Кузнецов А. Язык земли Вологодской. Очерки топонимики. — Архангельск, 1991.
2. Ильинский Н.В. Методика краеведческих исследований. Ко-мельское озеро и его район. — Вологда, 1927. — С. 63.
3. Например, в сборнике: Природные условия и ресурсы Вологодской области. — Вологда. 1970. — С. 187; или на карте: Окрестности
Вологды. — СПб., — Рига, 1991.
4. Кузнецов Александр. Сухона от устья до устья. Топонимический словарь-путеводитель. — Тотьма, 1991. — С. 5.
5. Востриков О.В. Финно-угорский субстрат в русском языке. —
Свердловск, 1990. — С. 65.
6. Кузнецов А. Язык земли Вологодской.., — С. 40—45.
7. Ткаченко О.Б. Мерянский язык. — Киев, 1985. — С. 120—122.
8. Ткаченко О.Б. Мерянский язык.., — С. 175.
9. Ткаченко О.Б. Мерянский язык.., — С. 177.
10. Ткаченко О.Б. Мерянский язык.., — С. 46.
11. Кузнецов А. Язык земли Вологодской.., — С. 30.
12. Кузнецов А.В. Этимологический словарь названий озёр Вологодской области. (Рукопись) Вологда, 1983. — С. 12. (архив автора)
13. Водарский Я.Е. Вологодский уезд в XVII в. (К истории сельских поселений). //Аграрная история Европейского севера СССР.
— Вологда, 1970. — С. 341.
14. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. — М., 1978.
— С.207.
15. Афанасьев А.П. Волоковая лексика на водных путях Поволжья и Европейского севера. //Топонимика и историческая география. — М., 1976. — С. 21—26.
16. Чайкина Ю.И. Географические названия.., — С. 60.
17. Водарский Я.Е. Вологодский уезд.., — С. 333—334.
18. Кузнецов А. Язык земли Вологодской.., — С. 128.
19. Востриков О.В. Финно-угорский субстрат.., — С.62.
20. Водарский Я.Е. Вологодский уезд.., — С. 334.
21. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь-., — М.,
1966. — С. 274.
22. Востриков О.В. Финно-угорский субстрат.., — С. 65.
23. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь.., — С. 383.
24. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов.
— М., 1984. — С. 506.
25. Никонов Н.А. Краткий топонимический словарь.., — С. 77.
26. Попов А.И. Следы времён минувших. Из истории геграфичес-ких названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
— М., 1981. — С. 31—32.
27. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. — М.— Л., 1950. — С. 35.
28. Чайкина Ю.И. Географические названия.., — С. 35.
29. Чайкина Ю.И. История административной терминологии Белозерья. //Лексика севернорусских говоров. — Вологда, 1976.
— С. 18.
30. Водарский Я.Е. Вологодский уезд.., — С. 327.
31. Водарский Я.Е. Вологодский уезд.., — С. 340.
32. Чайкина Ю.И. Географические названия.., — С. 158;
Вологодская область. Административно-территориальное деление.
— Вологда, 1974. — С. 441.
33. Водарский Я.Е. Вологодский уезд.., — С. 322.
34. Василий Иванович Белов. Библиографический указатель литературы. — Вологда, 1982. — С. 11.
35. Вологодская область.., — С. 156.
36. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов..,
— С. 81.
37. Селезнёв Юрий. Василий Белов. Раздумья о творческой судьбе писателя. — М., 1983. — С. 74.
38. Ильинский Н.В. Методика краеведческих исследований..,
— С. 18.
39. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов..,
—С. 511.
QQQ
Л.Д. СОКОЛОВА
(г. Вологда)
РОДОСЛОВИЕ СЕМЬИ БРЯНЧАНИНОВЫХ
Вологодское дворянство не достаточно подвергалось исследованиям в генеалогическом плане. Настоящая работа, составленная на основе разнообразных источников, посвящена родословию семьи Брянчаниновых, имевших владения в Грязовецком уезде.
Для получения подробной и объективной информации о родственных связях Брянчаниновых, живших в XVII—первой половине XVIII вв., были использованы многочисленные источники, наиболее важными из которых являются материалы писцового делопроизводства, опубликованные в печатных изданиях1.
Другим характерным источником XVII в. стали актовые материалы, также опубликованные в дореволюционных и современных изданиях2. Различного рода челобитные, расписки, квитанции на получение средств, отписки по разнообразным вопросам позволяют сделать выводы о состоянии, служебном положении некоторых представителей рода.
Обширную информацию о роде дало изучение фондов Государственного архива Вологодской области. Потребовалось сплошное исследование фондов различных учреждений и лиц: Вологодского дворянского депутатского собрания3, Вологодского губернского предводителя дворянства4, Вологодской консистории по Грязовецкому уезду6, личного фонда краеведа В.К. Панова6, коллекции рукописных свитков XVI—XVII вв.7, отдела по опеке и попечительству8. Особенно много сведений содержится в “Деле о занесении в 6-ю часть9 Дворянской родословной книги рода грязовецкого помещика Брянчанинова Петра Александровича”10. В деле содержатся копии с документов XVII, XVIII, XX веков, а также копия генеалогического древа рода Брянчаниновых11.
В книгах Л. Соколова “Епископ Игнатий” и И.Н. Ельчанинова “Материалы для генеалогии ярославского дворянства” опубликованы копия древа и роспись рода Брянчаниновых. Эти данные не имеют ссылок на конкретные источники. В настоящей работе мы учитываем этот материал, избегая обобщающих выводов, не подкрепленных документами12.
Нами были проанализированы и вещественные источники — надгробные плиты на родовом кладбище в д. Покровское и кладбище близ с. Степурина (Грязовецкий район). На памятниках некрополей имеются записи с точными датами жизни и смерти семи представителей рода.
Названные источники позволяют соединить разноплановые сведения о представителях рода в единую генеалогическую схему.
Основание рода, первые Брянчаниновы в Вологодском крае По легенде13, зафиксированной в ряде источников, в т.ч. и в житии святителя Игнатия, основателем рода Брянчаниновых был боярин Михаил Андреевич Бренко, оруженосец великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского. Он был тем самым воином, который в одежде великого князя и под княжеским знаменем геройски погиб в битве с татарами на Куликовом поле.
Однако вряд ли следует принимать версию всерьёз в силу ряда исторических и ономастических смысловых натяжек, которые очевидны.
Другая трактовка формирования фамилии Брянчаниновых высказана профессором Ю.И. Чайкиной14. Она считает, что фамилию свою Брянчаниновы приобрели от прозвища “брянчанин”, т.е. выходец из Брянска. Данная т.зр. в целом кажется предпочтительней, но требует наполнения конкретными данными о первых представителях рода.
Родоначальником рода Брянчаниновых по Копии генеалогического древа (далее см. ГД)*, представленной в “Деле о занесении в 6-ю часть Дворянской родословной книги…”15, был Игнатий, живший в конце XV—начале XVI вв.
У Игнатия был сын Софонтий, который имел сына Василия. Василий имел двух сыновей: Максима и Бориса, от которых пошли две ветви Брянчаниновых.
Актового материала, свидетельствующего о жизни этих пяти представителей рода не обнаружено. В деле о разделе родственного имения16 имеется документ 1630 г. “Допрос и очная ставка в поместном приказе И.П. Брянчаниновой с Б.К. Брянчаниновым”, где упоминается Василий Максимович Брянчанинов17. Мы считаем, что это, вероятно, сын старшего из сыновей Максима. Далее о потомках Максима известно несколько фактов, опубликованных в делопроизводстве Поместного приказа, собранных Н.В. Сторожевым.
* Здесь и далее см. генеалогическое древо, представленное П.А. Брянчаниновым.
Это наиболее ранние сведения о представителях рода Брянчаниновых
на Вологодской земле.
“Отдельная грамота на поместье Петра Васильевича Брянчанино-ва от 6 апреля 1613 года”18 сообщает, что он имеет в Авнежской волости 30 четвертей земли. Данные о нем мы находим в “Материалах поместного делопроизводства…” под 1626 и 1630 годами. В “Деле по челобитью вологжанина М.Г. Олешева да смольянина И.О. Чиха-чёва на П.В. и В.И. Брянчаниновых о родственном поместье”19 сообщается об увеличении надела Петра Васильевича и его двоюродного брата Воина Ивановича Брянчаниновых: “Да в Комельской волости в Коянском конце две трети пустоши Патрикеевы как брату моему Якову случилась смерть на твоей государевой службе брат мой Семён Олешев сдал Воину Брянчанинову и деревню Назарково сдал Петру Брянчанинову в 127 году. Да тот же Пётр Брянчанинов взял отца моего деревню Криводино в 12 7 году и пустошь Облубки пашни и перелогу 35 чети.” В решении по делу Петра Брянчанинова, просившего о даче ему в поместье “пустоши из поросших земель”, записано: “Дать в поместье Петру Брянчанинову починок Шеляков
в его оклад к старому поместью”20.
И по отдельной грамоте 1630 года21, “по окладу велено за ним нашего жалованья поместье учинить на 450 чети, а за ним поместья на Вологде, да на Белозерье 113 чети.” В городе Вологде в 1629 году “имел Пётр Васильевич Брянчанинов за соборною церковью к Ильинским воротам двор в длину 16 сажень попереч 10 сажень с
полусаженью ”22.
Таким образом, одна из ветвей Брянчаниновых появляется в Вологодском крае во втором десятилетии XVII в. в качестве помещиков.
Из челобитья23 мы узнаем, что в 1630 г. П.В. Брянчанинов умер.
“Царю государю бьют челом Фетка, да Бориска, да Богдашка, да Сенька Брянчаниновы, во 138-м году брата нашего родного Петра не стало.” Эти четверо братьев, по-видимому, младшие сыновья Василия Брянчанинова. Они упоминаются в единственном известном
пока документе.
Наиболее полную картину мы можем составить о семье Петра
Васильевича. В челобитной от 12 ноября 1629 года24 читаем: “Царю государю бьют челом бедная вдова, раба твоя Маврица Петровна, женишка Брянчанинова со своими детишками с сынишкой с Кость-кою, во нынешнем в 138 году мужа моего не стало. А сынишку 9 лет,
а дочеришке 6 лет”.
Таким образом, Пётр Васильевич был женат не позднее 1621 года на Мавре, девичья фамилия которой не установлена. От неё он имел
двух детей: Костю 1620 года рождения и Марию, которая родилась в 1623 году.
После смерти отца сын наследовал именье, “ив разряде Костька Петров сын Брянчанинов с отца своего поместье в 221 чети в Вологодской служилой список в недорослях записан”. — выписка из Поместного приказа от 12 февраля 1630 года25.
Кроме четырёх беспоместных братьев Петра Васильевича упоминается пятый брат, Иван, претендовавший в марте 1630 года на пустошь Княинино в Тошенской волости Вологодского уезда, которой ранее владел Пётр Васильевич Брянчанинов. Такой вывод мы можем сделать из челобитной И.В. Брянчанинова от 15 марта 1630 года26. “Царю бьёт челом холоп твой, Ивашка Васильев сын Брянчанинов. Милосердный государь пожалуй меня холопа своего в Вологодском уезде, в Тошенской волости пустошью Княинино, а та, государь, пустошь Княинино наша родственная брата моего родного Петра.” В документе, датированном 1638 годом27, есть упоминание об Иване Васильевиче, из которого узнаём, что в это время он был губным старостой.
На этом известные данные о детях Василия Брянчанинова исчерпаны.
В конце XVII в., а точнее в 1685 году, упоминаются Фёдор и Иван Семёновичи28, а в 1706 году — Яков Семёнович Брянчанинов29, возможно, дети Семёна Васильевича Брянчанинова, бывшего в 1630-м году беспоместным. В подтверждении сведений о том, что Фёдор и Иван уже зрелые люди, говорят занимаемые ими должности — они были поручиками по судебным делам.*
Яков Семёнович Брянчанинов имел землю, на что указывает расписка от 22 января 1706 г.30 “Из приказу земских дел отпись окольничьего Василия Савича Нарбекова крестьянину его Осипу Фомину для того: в прошлом в 1705 году принято на Вологде с вотчин Вологодского уезда… с Якова Семёновича Брянчанинова дер. Поповской с четырёх”. Неизвестным остаётся, каким образом были получены земли и достигнуто определённое положение в обществе этими представителями Брянчаниновых.
Другая ветвь Брянчаниновых немногочисленна. Имеется упоминание в 161731 и в 162832 гг. о помещике Воине Ивановиче Брянчани-
* Поручиками могли быть влиятельные и состоятельные люди, т.д. в случае нарушения договора они платили штраф.
нове, который был двоюродным братом Петру Васильевичу Брянча-нинову. “Бил нам челом вологжанин Воин Иванович сын Брянчани-нов, по окладу ведено за ним нашего жалованья поместье учинить на 300 чети, а за ним да поместье на Вологде 100 чети и нам бы его пожаловати, велети ему дать в Вологодском уезде в Комельской волости обводную пустошь Патрикеево 10 чети.”
В писцовой книге г. Вологды за 1629 год33 записано: “Двор пуст Воина Иванова сына Брянчанинова в длину 10 сажень, попереч тож ”. Возможно, к этому времени он уже умер. Сведения о семье в данных
документах отсутствуют.
Наиболее многочисленна ветвь рода, сведения о представителях которой открываются Кириллом, по прозвищу Любач. Возможность детально представить древо Кирилла нам дают документы, представленные в “Деле о занесении в 6-ю часть…”34 и судебным разбирательством между его женой и одним из сыновей35.
На очной ставке в Поместном приказе 13 марта 1630 года36 сказал “Борис Кириллов сын Брянчанинов, отца его Кирилла, прозвище Любача Брянчанинова в 126-м году не стало, а после его осталась жена его Борисова мачеха вдова Орина с детьми, с Владимиром, да с двумя дочерьми, с девками, да с пасынком, а с его Борисовым братом с Иваном Брянчаниновым”. В челобитной, датированной 11 марта 1627 г.37, написано: “К сей челобитной Борис Брянчанинов в брата своего вместо Петра Кирилловича Брянчанинова по его велению руку
приложил”.
Таким образом, мы видим, что Кирилл был дважды женат.
От первого брака имел трёх сыновей: Петра, Ивана и Бориса. От второго брака с Ориной (Ириной) Петровной Ушатовой Кирилл имел сына Владимира и двух дочерей. Это же подтверждает и поколенная роспись (см. ГД). Умер Кирилл Борисович в 1618 году.
Упоминание о старшем из сыновей, Петре Кирилловиче Брянча-нинове, относится к 1627 году38. “Я Пётр Кириллов сын Брянчанинов женился на Иванове жене Бехтеярова сына Беседного, на Анне, на Григорьеве дочери. ”39 “В Вологодском уезде в Комельской волости за вологжанином Петром Кирилловичем сыном Брянчаниновым в поместье, что было за Кудеяром Беседным сельцо Орешково на речке на Комье, а в нём двор помещиков, двор людской Первушки Григорьева, да во дворе бобыль Фомка Семёнов…, пустошь Денисова на реке на Комье (5 дворовых), д. Орефино на р. на Лухте две трети деревни Туфановы…, и всего в Комельской волости за Петром Кирилловичем
Брянчаниновым стало середние земли 190 чети с осьминою, что на добрую 153 чети.”40
Иван Кириллович Брянчанинов также владел землями в Вологодском уезде. “За храбрость, проявленную Иваном Кирилловичем Брянчаниновым в сражении против литовского короля…, стоявшего под Москвой в 127 году с польскими, литовскими и немецкими людьми и с черкасы… жаловал его Ивана с Поместного его окладу с 350 четвертей вотчину за Московское осадное сидение вотчинную грамоту на землю в Вологодском уезде Комельской волости, и внучатам и правнучатам те вотчины продавать.”41 Из этого документа становится понятно, каким образом получил землю Иван Кириллович Брянчанинов.
Из документа 1641 года42 узнаём, что во время пожара “сгорели двор его (Ивана Кирилловича — Л. С.) со всеми его животами да у него в те поры сгорели жалованная вотчинная грамота и на поместье вводная грамота”, и он просит выдать новую грамоту. Просьба Ивана Кирилловича была удовлетворена в 1642 году43.
О Землевладении Бориса Кирилловича Брянчанинова мы имеем следующие данные: “Борису Кирилловичу Брянчанинову по отдельной выписке 1625 года даны были деревни Фефилово, Несминкино, Разбойниково и Бенары, которые вымененные у мачехи и у брата Владимира поместье сельцо Кузьминское, деревни Михайлове с пустошами писаны были за ним по отдельной книге 1625 г. и по писцовым книгам 1628, 1629, 1630 гг.”44.
За Владимиром, сыном от второго брака, “было отца выслуженное поместье Вологодского уезда 157 четвертей”45.
В 1639 году в челобитной Иван и Борис Любачевы, дети Брянча-ниновы, просят: “Брата де их родного Владимира не стало, после его детей и жены не осталось, был не женат, а осталась у него мать, а их мачеха вдова Ирина Петровна дочь Ушатова, стара и бездетна, и иных родных детей опричь них нет и отца их не стало на Вологде и оклад отцу их Любачу был поместной пятьсот четвертей, а за братом их за Владимиром было их отца выслуженное поместье в Вологодском уезде с 157 четвертей” и просили, чтобы “за смоленскую службу и за осадное терпенье дать им поровну пополам и разверстав живущее и пустое в их оклады”. Их просьба была удовлетворена48.
Итак, все сыновья Кирилла Любача владели землёй в Вологодском уезде. Младший из сыновей, Владимир, умер около 1639 года, видимо, молодой, а его земли были поделены между двумя его старшими братьями.
Перейдём к рассмотрению семейного положения сыновей Кирилла Борисовича.
О сыновьях Петра никаких документальных свидетельств не
обнаружено. Из поколенной росписи (см.ГД) видно, что он имел трёх сыновей: Василия, Максима и Семёна. Пётр был женат на Анне Григорьевне не ранее 1627 года. От этого брака эти дети или нет —
неизвестно.
В одном интересном документе, росписи родства, датированной
1656 годом47, есть косвенное упоминание о дочери Петра. В росписи говорится о родной племяннице Бориса Брянчанинова — Евгении. Почему мы решили, что Евгения — дочь Петра, а не Ивана; он тоже дядя? Дело в том, что эту роспись записал Герасим Иванович Брянчанинов, который говорит о Борисе Кирилловиче как о своём родном дяде. Если бы Евгения была дочерью Ивана, то Герасиму она приходилась бы родной сестрой, но об этом Герасим ничего не пишет.
Из генеалогического древа (см. ГД) видно, что Иван Кириллович имел двух сыновей: Герасима и Дениса. Документальные свидетельства имеются лишь о старшем, Герасиме, и относятся к 164748,165649, 167350,168651 годам. Интересно, что в этих документах он фигурирует как человек, писавший челобитные и подававший явки.
Имеется челобитная, датированная 1686 г.52, в которой идет речь сразу о нескольких Брянчаниновых: “Архиепископу Гавриилу челобитная холопей твоих государь сирот, старост и крестьян разных поместий Гераски Иванова сына, Васьки, Ивашка Борисовых детей Брянчаниновых Матюшки, Сеньки Герасимовых детей Брянчаниновых… прихожан у Комельской волости церкви архистратия Михаила, что на Пухиде”.
Судя по датировке и месту жительства упоминаемых Брянчаниновых, а также соотнеся эти данные с копией поколенной росписи (см. ГД) можно сделать следующие выводы. Матвей и Семен — это дети Герасима Ивановича Брянчанинова, внука Ивана Кирилловича. Василий и Иван Борисовичи — дети Бориса Кирилловича Брянчанинова.
Кроме этих сыновей у Бориса были ещё два — старший Афанасий
и младший Михаил. Из записи в Дворцовых разрядах 1660 года:
“Жильцы,* которые были в терликах в бархатных в червчатых:
* Жильцы составляли нечто вроде дворцового охранного отряда и жили известное время около двора, откуда и произошло их название. Они комплектовались из детей московских дворян и из провинциальных дворян, для которых это было наградою за
долгую службу.
Офанасий Борисов сын Брянчанинов”53. Михаил Борисович Брянчанинов был убит (см. ГД).
“В 1677 году Афанасий приобрел от матери и сестры их доли из того (отца — Л.С.) поместья полудеревни Разбойниково, Митинская, Максимова Гора тож и деревни Калинкино с крестьянами, поместье это после Афанасия в 1705 году справлено за сыном его Иваном, носившем звание стольника*”54.
Дальнейшая история рода связана с наследниками Афанасия и Михаила Брянчаниновых.
Брянчаниновы в XVIII — начале XX вв. Потомки Афанасия Борисовича (Юровская ветвь)
Л.М. Савёлов указывал,55 что “XVIII в., особенно его первая половина, — это самая тёмная страница в истории дворянства для генеалога, старое дело все разрушено, нового ничего не создано, и генеалогу приходится по обрывкам собирать сведения о представителях родов, кое-какой материал дают только сказки о службе и дела герольдмейстерской конторы, где собирались сведения о недорослях”.
Действительно, о представителях рода Брянчаниновых, живших в первой половине XVIII в., имеются лишь отрывочные сведения.
Итак, сын Афанасия Борисовича Брянчанинова, Иван, служил при Петре I стольником и после смерти Афанасия в 1705 году владел его имением на правах, очевидно, единственного (см. ГД) сына56.
“После же Ивана Афанасьевича его поместья и вотчина сельцо Юрово с деревнями, с пустошами, с людьми и с крестьянами в 1717 году справлено за вдовою его и за сыном Фёдором, после которого досталось сыну его Александру, а от него сыну Петру”57.
О службе Фёдора Ивановича Брянчанинова есть справка58 в том, что Фёдор Брянчанинов “служил лейб гвардии капралом, а в 1727 году переведен в прапорщики”.
Таким образом, Иван Афанасьевич был женат, имел сына Фёдора, умер не позднее 1717 года.
Из подлинного раздельного акта, представленного Александром Петровичем Брянчаниновым в 1767 году 8 июня59, мы узнаем, что у Фёдора Ивановича Брянчанинова кроме сына Александра, владевшего имением отца с 1767 года и служившего в чине коллежского асессора60, был сын Матвей, который женился на Анне Власьевне и
* Стольник — первоначально их обязанность — служить за столом, затем эта обязанность остается только за ними в торжественных случаях, они приглашали к столу.
имел детей, Афанасия и Фёдора, племянников Александра. В акте61 записано: “Между родным сыном Фёдора Иванова Брянчанинова Александром Фёдоровым, невесткою его Анной Власьевой дочерью женой Матвея Фёдорова и племянниками Афанасием и Фёдором Матвеевыми детьми Брянчаниновыми, оставшемуся после родного отца Александрова, упоминаемого Фёдора Ивановича”. И далее пишет: “Отец мой родной Петр Александрович родился 1777 года 15 июня от Александра Фёдорова, а я 27 апреля 1798 года от Петра Александровича”62.
Точные годы жизни Петра Александровича Брянчанинова имеются на могильной плите, найденной нами на кладбище близ с. Степурина Грязовецкого района. На железной плите (длина 178 см;
ширина 89 см; высота 2,5 см) записано: “Здесь покоится тело Петра Александровича Брянчанинова, родившегося в 1777 году июня 15 дня, скончавшегося в 1829 году мая 19 дня”.
На том же кладбище имеется надгробный камень из черного мрамора, на котором сделана надпись: “Александр Петрович Брян-чанинов родился 1798 года апреля 27 дня, скончался 1861 года октября 1 дня”.
В заключении по делу Петра Александровича Брянчанинова, просившего о занесении его самого и его сыновей в 6-ю часть Дворянской родословной книги, записано: “Начиная с 1625 года Борис Любачев Брянчанинов, затем сын его Афанасий, внук Иван, правнук Фёдор, праправнук Александр, прапраправнук Петр (проситель) беспрерывно владели деревнями: Фефилово, Несминкино, Раз-бойниково, Михайлове, Митинская и др, а также сельцами Юровым, Кузьминским с пустошами, людьми крестьянскими, а ныне владеет надворный советник Александр Петрович Брянчанинов. На переход тех имений из поколения в поколение, а вместе и происхождение одного от другого вышеименованных лиц доказывается выписями с отдельных, писцовых, отказных и справочных книг, раздельными 1767 и 1839 года, вводными 1838 годов актами, сверх того, о законном рождении Александра от Петра удостоверяется метрическою справкою Вологодской духовной консистории”63.
Итак, Пётр Александрович Брянчанинов смог доказать своё происхождение до 1625 г. и был занесён в Дворянскую родословную книгу. Туда же были занесены и его потомки, о которых мы имеем следующие сведения: “В 1839 году, после смерти Петра Александровича Брянчанинова, имение было разделено между детьми его:
коллежским асессором Александром, полковником Никитой, гвардии штабс-капитаном Виктором, коллежским секретарём Петром, гвардии подпоручиком Николаем, девицей Парасковьей и флота лейтенантшей Елизаветой Петровыми Брянчаниновыми”64.
А в прошении на имя Николая Павловича, поданном 1 декабря 1839 года от вологодского помещика коллежского асессора Александра Петровича Брянчанинова, записано: “В 1814 году Пётр Александрович с его сыновьями, Александром, Никитой, Владимиром, Виктором, Петром, Павлом, Николаем, и дочери, Софья, Елизавета и Прасковья, записаны в родословную Дворянскую книгу”65. Таким образом, Петр Александрович имел 7 сыновей и 3 дочерей. Он же построил около 1814 года дом в с. Юрове66, который сохранился и до наших дней.
Славен род Брянчаниновых своими литературными традициями. Двоюродный брат Петра Александровича Афанасий Матвеевич Брянчанинов — поэт второй половины XVIII века, незаслуженно забытый потомками. Н.Н. Белова в своей публикаций пишет: “Одно из своих произведений — комедию — он посвятил своему земляку, зятю знаменитого полководца А.В. Суворова Алексею Васильевичу Олеше-ву, поэту, переводчику, имевшему у современников славу видного писателя и просвещённого деятеля. Хорошо знал Афанасия Матвеевича поэт Михаил Никитич Муравьёв, отец декабристов Никиты и Александра. Одно из своих стихотворений, “Сельская жизнь”, поэт пишет в форме послания Афанасию Матвеевичу:
Так, Брянчанинов, ты Проводишь дни спокойны, Соединяя вкус с любовью Простоты:
Из лиры своея изводишь
Гласы стройны
И наслаждаешься хвалами красоты”67.
Афанасий Матвеевич Брянчанинов в 1767 г. начал службу сержантом лейб-гвардии Семеновского полка. В 30 лет вышел в отставку. Был женат на двоюродной сестре поэта М.Н. Муравьева Елизавете Павловне, проживал в имении Нижнее Осаново в Вологодском уезде68.
Его сводный брат Фёдор — сын от второго брака М.Ф. Брянчанинова, 5 марта 1773 г. был зачислен в Семеновский полк, с 1785 — сержант, 1 января 1786 г. переведен капитаном в Апшеронский мушкетерский полк и 23 февраля 1787 г. по болезни уволен в чине секунд-майора. Был женат на мещанке Анастасии Семеновне, родив-
шейся в 1797 г. После отставки жил в своих имениях в Ярославской
губернии и там же служил69.
В личном фонде краеведа Панова70 есть выписка из РГАДА: (ф. 16, ед.хр. 628.) “Бывший в Сенате обер-секретарь Матвей Брянчанинов по делу покойного графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. В 1762 году утайка вещей. Определено: Брянчанинова лишить чинов, вывести на площадь перед Сенатом с надписью на груди: “преступник и вздоимец” и поставить у столба на четверть часа, потом заключить в тюрьму на полгода и впредь ни к каким государственным делам и службе, ни к делу народному, ни к партикулярному не допускать. Имение Брянчанинова разделить по закону между женой его и
детьми”71.
Судя по датировке, здесь идет речь об отце Афанасия — Матвее
Фёдоровиче Брянчанинове, действительно, имение которого было разделено родственниками в 1767 году72. Так бесславно закончил свою карьеру дед Ивана и Софьи Брянчаниновых (см. ГД)73.
Вернёмся к рассмотрению семейного положения и служебной деятельности многочисленных детей Петра Александровича.
Старший сын Александр 4 октября 1839 г. был “введён во владение сельца Юрово”74. О семейном положении Александра мы узнаём из копии свидетельства Вологодской духовной консистории
за № 111775.
Он был женат на Елене Павловне и имел от этого брака двух детей:
Анатолия, родившегося 13 ноября 1839 года, и Фаину, родившуюся
6 апреля 1841 года.
В деле об утверждении опекуна к оставшемуся имению помещицы
Елизаветы Брянчаниновой76 упоминается кондуктор императорского Николаевского училища Леонид Александрович Брянчанинов, ему в 1862 году исполнилось 20 лет,77 — это, вероятно, младший’из детей,
и родился он в 1842 году.
Далее в деле имеются копии свидетельства из Орловской духовной консистории78 и “Формулярный список о службе мирового судьи третьего участка Кадниковского округа, отставного гвардии подпоручика Анатолия Александровича Брянчанинова”, составленный 14 августа 1883 года79. Из этих документов явствует, что Анатолий был дважды женат, в первом браке — на Елене Александровне Касаткиной и имел с ней двух дочерей: Марию, родившуюся 11 февраля 1867 года, и Веру, родившуюся 10 августа 1868 года. После смерти Елены Александровны в 1869 г. дочери находились на попечении сестры Анатолия Фаины, в замужестве Межаковой80.
Вступил во второй брак с девицей Верой Александровной, имел с ней сына Владимира, родившегося 25 октября 1875 года. Дочери в 1883 году находились: Мария — в Елизаветинском институте, Вера — в Орловском институте.
Из формулярного списка узнаём, что Анатолий имел благоприобретенное имение: .760 десятин земли в Кадниковском уезде. Он получил воспитание в Николаевском инженерном училище, окончив курс в Николаевской инженерной академии с правом 2-го рода. В службу вступил кондуктором в кондукторскую роту Николаевского инженерного училища 21 сентября 1853 года, а в 1862 году высочайшим приказом уволен по домашним обстоятельствам от службы в чине подпоручика. В 1861 году был утвержден кандидатом мировых посредников по Грязовецкому уезду, затем, согласно прошению, перечислен в роту таможенных сборов, а в октябре 1882 года Кадниковским уездным земским собранием избран участковым мировым судьёй Кадниковского округа81.
Его сын Владимир умер 38 лет от хронического воспаления легких, а через несколько дней умерла от паралича сердца и его жена, Евгения Васильевна, 27 лет от роду. Похоронены в Духовом монастыре в Вологде.
Дети, а их было трое — Даниил, Ирина и Мария, остались на попечении бабушки и дедушки82.
В одном из изученных документов есть прошение от Анатолия Александровича Брянчанинова. Он просит определить своего внука Даниила, родившегося 19 апреля 1908 г., на учёбу в военное училище83.
Но Даниилу не суждено было стать военным. В августе 1918 г. Даниил скончался. В этот же год умер и его дед.
Точные годы жизни Анатолия Александровича находим в “Словаре русских писателей”84. Родился в 1839, умер в 1918 г.
В 1859 г. в журнале “Русский инвалид” появляется его первая публикация — очерк “Счастье в тумане”. За ним повести “Три свидания” и “Безысходная доля”.
После переезда в Орел в сер. 70-х гг. вышла в свет драма Брянчанинова “Бездольная”, которую высоко оценил И.С. Тургенев. Повести и романы Анатолия Александровича выходили в свет отдельными изданиями в 1890—1900 гг.
Возвратившись в Вологду, А.А. Брянчанинов был редактором неофициальной части Вологодских губернских ведомостей. В 1904 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника85.
Второй сын Петра Александровича Брянчанинова — Никита —
родился 2 марта 1801 года86. Из копии послужного списка87 мы имеем о службе Никиты следующие сведения: начал службу в чине юнкера (1820 г.), затем получил чин корнета в 1821 г., подпоручика— в 1826г., штабс-ротмистра— в 1828г., майора— в 1829г., подполковника — в 1831 г., полковника — в 1832 г.“ За службу получил следующие награды: ордена Св. Анны 2-ой степени. Св. Станислава 2-ой степени, Св. Владимира 4-ой степени. Имеет родовое имение в Вологодской и Ярославской губерниях 750 душ крестьян, по смерти первой супруги получил 26 душ крестьян…” “Вторым браком женат на дочери покойного генерал-лейтенанта Александра Александровича Волкова, Вере Александровне Волковой, от этого брака имел детей:
Александра, родившегося 21 июня 1834 г., Павла, 27 июля 1836 года рождения, Ольгу, родившуюся в 1837 году, Софью, 1840 года рождения, и Дмитрия, 1843 года рождения”.
После увольнения с военной службы Никита Петрович Брянчани-нов получил чин московского старшего полицмейстера, состоящего при кавалерии.
Сведения о семейном положении младшего из сыновей Петра Александровича, Николае Брянчанинове, получаем из дела “Об утверждении опекуна к оставшемуся имению помещицы Елизаветы Брянчаниновой сына ее Николая Петровича Брянчанинова.”88 Николай был женат на Елизавете Карловне, урождённой баронессе Остен, которая родилась 26 марта 1823 года, а скончалась 15 сентября 1858 года. Точные годы жизни Елизаветы Карловны есть на могильной плите на родовом кладбище Брянчаниновых в с. Покровском. В этом браке Николай имел двух детей: Валериана, родившегося 14 декабря 1845 года, и Петра, родившегося в 1848 году89.
Николай вступил в службу лейб-гвардии в Измайловский полк унтер-офицером, продвигался по службе и в 1841 г. получил чин штабс-капитана90.
Старший сын Николая, Валериан, “при окончании курсов наук в императорском Петербургском университете с званием действительного студента, приказом по Министерству внутренних дел от 8 октября 1871 года определён на службу в министерство, в 1877 году Валериан Николаевич назначен в должность столоначальника Департамента полиции. С 1875 г. был директором С-Петербургского комитета общества попечительного о тюрьмах”91.
Далее из формулярного списка о службе Валериана Николаевича Брянчанинова узнаём и его семейное положение.
“Был дважды женат, от первого брака с Натальей Борисовной,
урожденной Обуховой (родилась 17 мая 1854 года, умерла 19 апреля 1875 года — даты с надгробия на кладбище в с. Покровском), имеет сына Николая, родившегося 14 марта 1874 года; женился вторым браком на французской гражданке, вдове, графине Софье Гвидобони Висконти, урожденной Давыдовой”92.
Письменного свидетельства о детях от этого брака не обнаружено. На фамильном кладбище есть мраморное надгробие, на котором записано: “Владимир Валерианович Брянчанинов родился 21 марта
1879 года, умер 14 апреля 1891 года”. Возможно, это ребёнок от второго брака.
При составлении родословной были изучены документы93, подтвердившие воспоминания старожилов села Юрова94: “Валериан, последний владелец дома в с. Юрове, имел трёх жён; от брака с третьей, Верой Павловной, имел дочь Марию. Сам Валериан умер в Москве”.
“Свидетельство по указу императорского величества Вологодский окружной суд. Мария Валериановна Брянчанинова родилась 1 декабря 1890 года; родители ея — потомственный дворянин — титулярный советник Валериан Николаевич Брянчанинов, вероисповедания православного, и законная жена его Вера Павловна, вероисповедания православного, крещена 2 декабря 1890 года. Записано в метрической книге Вологодской губернии Грязовецкого уезда Степу-ринской Христорождественской церкви”95.
Как сложилась судьба Валериана Брянчанинова и его детей после 1917 года нам пока неизвестно.
О потомках второго сына Николая Петровича Брянчанинова — Петре — сведений не обнаружено.
На этом рассмотрение одной из ветвей рода Брянчаниновых, самой многочисленной, но далеко не полной, заканчивается. Дело о занесении Петра Александровича Брянчанинова в Дворянскую родословную книгу позволило восстановить 7 поколений рода, начиная с Ивана Афанасьевича Брянчанинова.
Потомки Михаила Борисовича Брянчанинова (Покровская ветвь)
Возвратимся снова в первую половину XVIII в. и проследим родственные связи Михаила Борисовича Брянчанинова.
“Доказательства, представленные в Департамент Герольдии” и подписанные императрицей Анной, свидетельствуют, что “дед Александра Семёновича Брянчанинова Андрей Михайлович Брянчанинов вступил в военную службу из дворян в 1713 году и был в походах,
сражениях и атаках, в 1749 году от роду 56 лет отставлен с награждением за долговременную службу с бригадирским чином”96.
Получается, что Андрей Михайлович родился в 1693 году и имел сына Семёна, служившего “во 2-м фузелёрном полку с 1765 года и оставлен с награждением от армии”97.
Александр Семёнович Брянчанинов, сын Семёна Андреевича, родился 7 мая 1784 года, скончался 19 апреля 1875 года (надпись с плиты в с. Покровском). “Служил в Александровском гусарском полку корнетом, от полевой службы уволен в 1803 году в статскую с повышением в чине”98. Принимал участие в Отечественной войне
1812 г.99
В вологодском обществе был известен как строитель усадебного
дома в своём имении, селе Покровском,100 а также как первый помещик, основавший на свои средства приходское училище для
крестьянских детей101.
“В двадцати верстах от Вологды… находится имение Покровское.
Точных указаний о годе постройки нет, и имя архитектора неизвестно.
По данным летописи, находящейся в архиве церкви имения,
постройку дома можно отнести не позже как 1809—1810 гг.
Если эта датировка верна, то дом являет собой подлинный образец стиля раннего классицизма к. XVIII в.”, — писал Г.К. Лукомский102.
“Александр Семёнович очень любил своё имение; в 1812 году, когда он должен был уезжать в Москву в действующую армию, думал
с ужасом — что будет с усадьбою?”103
“О литературных вкусах Александра Семёновича свидетельствует сохранившийся рукописный “Каталог книгам А.С. Брянчанинова 1806 года”, где в систематическом порядке: “исторические”, “географические”, “путешествия”, “трагедии”, “стихотворения” и т. д. — дан перечень книг библиотеки, характеризующей её владельца как серьезного, много и внимательно читавшего человека. Среди книг, включённых в перечень, произведения Плутарха, Ломоносова, Фонвизина, Карамзина, Корнеля, Шатобриана. Интересен дневник Александра Семёновича — “Записка дневная на 1842 год”, который он вёл с января по сентябрь этого года, описывая события каждого прожитого дня, встречи с жителями города Вологды, наблюдения за
погодой и т.д.”104
Александр Семёнович женился на представительнице другой ветви Брянчаниновых, Софье Афанасьевне. В этом браке он имел четверых сыновей: Петра, Дмитрия, Александра и Семена. Это
доказывается следующими документами: “Прошением на имя императора Николая Павловича, поданным 26 августа 1844 года”105, в нем Петр Александрович Брянчанинов говорит: “Отец мой родной — помещик Александр Семенович Брянчанинов”. Далее из этого прошения узнаем, что сам Пётр Александрович родился 24 марта 1806 года, женился не позднее 1843 года на Ольге Сергеевне, имел в этом браке сына Алексея, родившегося 21 июня 1843 г.
Из формулярного списка о службе и достоинствах Петра Александровича Брянчанинова, составленного в 1848 г.106: “Кавалер орденов Св. Анны 3-ей степени. Св. Станислава 4-ой степени, имеет серебряную медаль за Турецкую войну 1828 г. 42 лет от роду, вероисповедания православного. Владеет родовым имением, бывшим за отцом его в Вологодской губернии в Вологодском и Грязовецком уездах, состоит из 250 душ крестьян. Службу начал кондуктором, а в 1847 году получил звание подполковника. Семейное положение:
вдов, имеет 4 летнего сына Алексея”. Таким образом, мы видим, что жена Петра к 1848 году скончалась, и у него остался малолетний сын.
Сведения о семейном положении А.С. Брянчанинова, кроме вышеизложенного, нам дают два свидетельства о рождении, выданные Вологодской духовной консисторией.
“Свидетельство, данное коллежскому асессору Александру Семёновичу Брянчанинову, сыну его Александру Александровичу Брян-чанинову, в достоверие того, что он, Александр Брянчанинов, желающий поступить на государственную службу, родили оного господина Александра Брянчанинова от жены его Софьи Афанасьевны 1 мая 1814 г.”107.
Другое аналогичное свидетельство даёт сведения о рождении Семёна Александровича Брянчанинова 3 декабря 1815 г.108
На основании свидетельства о рождении, выданного Вологодской духовной консисторией109, мы можем сделать следующие выводы о службе и семейном положении младшего из сыновей Александра Семёновича и Софьи Афанасьевны — Семёна Брянчанинова.
Гвардии штабс-капитан Семён Александрович Брянчанинов был женат на Надежде Петровне; от этого брака имел детей: Александра, родившегося 28 октября 1843 г., и Николая, который родился 17 сентября 1844 г.
Формулярный список о службе гвардии штабс-капитана Семёна Александровича Брянчанинова, составленный 24 января 1853 г.110, вносит дополнения: Из дворян. Имеет родовое имение, за родителями его состоит в Вологодской губернии в Грязовецком и Кадниковском
уездах 400 душ крестьян, у него самого кроме этого есть благоприобретённое имение в Вологодской губернии Вологодском и Грязовецком уездах 311 душ. Женат вторым браком на Анне Ильиной, имеет от этого брака дочь Александру, родившуюся 13 мая 1850 г., и сына Дмитрия, родившегося в 1851 г. 9 декабря.
Таким образом, Семён был дважды женат и имел трёх сыновей и одну дочь. О дальнейшей судьбе его детей известно следующее: на родовом кладбище есть мраморное надгробие с записью: “Александр Семёнович Брянчанинов родился 28 октября 1843 г., скончался 26 декабря 1910 г.”
Кроме того, краткое упоминание об Александре и Николае имеется в “Деле об открытии очередного дворянского собрания для проведения выборов дворян на разные должности на трехлетие”111, датированном 1908— 1909 гг. В деле записаны гофмейстер Александр Семёнович Брянчанинов и штабмейстер Николай Семенович Брянчанинов. Оба они владели не менее чем 280 десятинами земли и имели право участвовать в работе собрания и в выборах лично и через
уполномоченных.
Самым известным из древнего рода вологодских дворян Брянча-ниновых был, несомненно, Дмитрий Александрович Брянчанинов, второй сын Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны. Он родился 5 февраля 1807 г. в селе Покровском112.
Дмитрий получил прекрасное домашнее образование, и, когда ему исполнилось 15 лет, отец повёз его в Петербург для продолжения образования. В столице Дмитрий закончил в 1826 г. военное инженерное училище в чине поручика и в этом же году подал прошение об отставке, решив уйти в монастырь. Родители были категорически против. Сам император Николай I был против его увольнения.
В Динабурге, куда Дмитрия отправили для несения военной службы, он тяжело заболел, и осенью 1827 г. было принято его прошение об освобождении от светской службы. Несколько лет он провёл в монастырях и в 1831 г. 28 июня пострижен в монахи и наречён Игнатием. 4 июня того же года монах Игнатий рукоположен епископом Стефаном во иеродиакона, а 25 июля — во иеромонаха. 29 января 1833 г. Игнатий был возведён в сан игумена. В это время о его деятельности стало известно в Петербурге. В конце 1833 г. он был вызван в столицу, ему поручили в управление Троице-Сергиеву пустынь, с возведением в сан архимандрита. В 1857 г. архимандрит Игнатий был посвящён в епископа Кавказского и Черноморского.
Ещё в годы учёбы Д.А. Брянчанинов своим поэтическим и
литературным дарованием привлёк к себе внимание Крылова, Гнеди-ча, Батюшкова, Пушкина.
Уйдя со светской службы, он не бросил занятия литературой. Его перу принадлежат “Аскетические опыты”, “Приношение современному монашеству”, “Отечник”. Всего было издано шесть томов его произведений, в которых содержались проповеди, советы и наставления монашествующим, высказывания подвижников по вопросам христианской аскетики и примеры из их жизни и многое другое.
Умер Игнатий 30 апреля 1867 г., на его погребении присутствовало пять тысяч человек. Епископ Игнатий был канонизирован Русской Православной церковью на Поместном соборе в июне 1988 года113.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате долгой и кропотливой работы удалось восстановить четырнадцать поколений рода Брянчаниновых, с конца XVI до конца XIX — начала XX вв.
Брянчаниновы, уроженцы южной окраины Русского государства, появляются на вологодской земле в начале XVII в. Это служилые люди, возможно, участвовавшие в одном из ополчений 1611—1612 гг. и получившие за службу землю.
Свои земельные владения передавали из поколения в поколение, от отца к сыну.
Представители рода верой и правдой служили Отечеству: участвовали в событиях Смутного времени нач. XVII в., в войне с Польшей (1654—1667) при царе Алексее Михайловиче, несли службу при Петре I, возможно, были участниками его многочисленных походов, защищали Родину в 1812 г. в войне с наполеоновской Францией. За службу были отмечены наградами и чинами.
В XVIII веке ветви Брянчаниновых разошлись так далеко, что едва помнили своё родство. В алфавитном списке помещиков Вологодской губернии за год записано 15 представителей рода, имевших земли в Вологодском, Грязовецком и Кадниковском уездах114.
Брянчаниновы имели дворянский титул, сумев доказать свое благородное происхождение до 1625 года, были занесены в Дворянскую родословную книгу, в шестую ее часть115.
Представители рода играли значительную роль в работе Вологодского дворянского депутатского собрания.
Многие из рода Брянчаниновых были известны и за пределами Вологодской губернии, особую славу роду принёс святитель Игнатий.
Брянчаниновы были образованными людьми. В фондах Вологодской областной библиотеки хранятся фрагменты стародворянской семейной библиотеки конца XVIII—первой половины XIX вв., а также часть книжного собрания более позднего периода — рубежа XIX—XX веков, принадлежащие Брянчаниновым.
До наших дней сохранились и родовые усадьбы, принадлежавшие представителям разных ветвей Брянчаниновых, в сёлах Юрово и Покровское.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Сторожен В.Н. Материалы для истории делопроизводства поместного приказа по Вологодскому уезду. — М., 1906—1918. — Т. 1; 2. Акты писцового дела 1644—1661 гг., сост Веселовским, — М., 1977. Писцовая книга г. Вологды 1629 г. письма и меры кн.
И. Мещерского и подьячего Ф. Стогова. — Вологда, 1904.
2. Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. — Вологда, 1899—1917. Вып. I—XIII.
Суворов И.Н. Сборник актов Северного края XVII—XVIII вв. —
Вологда, 1825. Вып. I—II.
3. Государственный архив Вологодской области (далее ГАВО), ф. 32.
4. ГАВО, ф. 31.
5. ГАВО, ф. 1063.
6. ГАВО, ф. 1619.
7. ГАВО, ф. 1260.
8. ГАВО, ф. 86.
9. По указу императрицы Екатерины II в 1785 году каждой
губернии повелено было завести родословные книги, которые делились на шесть частей. В 6-ю часть родословной книги заносились все роды, доказавшие своё благородное происхождение до 1685 года. // Читано у Савёлова Л.М. Лекции…— М., 1907. — 1 полугодие.
10. ГАВО, ф. 32. on. 1. д. 11.
11. Там же, л. 39(об)—40.
12. Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов, Его жизнь, личность и морально-аскетические опыты. — Киев, 1915.
Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии Ярославского
дворянства. — Ярославль, 1913. В. П.
13. Житие святителя Игнатия Брянчанинова. /Журнал Московской патриархии. —1989. — № 5. — С. 60.
14. Чайкина Ю.И. История вологодских фамилий. — Вологда,
1989. — С. 14.
15. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11.
16. Сторожев В.Н. Материалы для истории делопризводства поместного приказа по Вологодскому уезду. — СПб., 1906. — Т. 1.
— С. 377—398. “Дело по челобитью вдовы И.П. Брянчаниновой и сына её В. Брянчанинова с пасынком её Б.К. Брянчаниновым о повороте меновых поместий.”
17. Там же. — С. 381. “Допрос и очная ставка в поместном приказе И.П. Брянчаниновой с Б.К. Брянчаниновым 13 марта 1630 г.” “.. .Ирина шлётся из виноватых в то именье на дядю его двоюродного на Василия Максимова сына Брянчанинова, да на брата его на родного на Петра Кирилловича Брянчанинова, да на брата его родного на Ивана Кирилловича сына Брянчанинова.”
18. Сторожев В.Н. Материалы для истории… — Т. 1. — С. 299.
19. Там же. — С. 295—318.
20. Там же. — С. 317.
21. Там же. — С. 298.
22. Писцовая книга г. Вологды. —Вологда, 1904. — С. 85.
23. Сторожев В.Н. Материалы для истории… — С. 314. “Челобитная беспоместных Фёдора, Бориса, Богдана и Семёна Васильевых детей Брянчаниновых.”
24. Там же. — С. 312. “Челобитная вдовы П.В. Брянчанинова Мавры.”
25. Там же. — С. 315. “Память из разряда в Поместном приказе от 12 февраля 1630 г.”
26. Там же. — С. 316.
27. Суворов И.Н. Сборник актов Северного края XVII—XVIII вв.
—Вологда, 1925. “Явка Василия Высоцкого на Вологодского губного старосту Ивана Васильевича Брянчанинова.” Вып. 2.
28. Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. — Вологда, 1899—1917. — Вып. IV. — С. 25.
“Се аз, Проковьев Афанасьев сын Кашинцев, Иван да Фёдор Семёновы дети Брянчаниновы поручились есми архиепископу сыну боярскому Ивану Горяинову по Иване Семёнове сыне Брянчанинове в том, стати ему Ивану за нашего порукою против челобитья Нефеды Брянчанинова.”
29. Там же. — С. 25. “Расписка по памяти воеводы Герасима Афанасьевича Корсакова да подъячего Григория Бирилева.”
30. Там же. — С. 26.
31. Сторожев В.Н. Материалы для истории… — Т. 1. — С. 298. “Отдельная грамота на поместье В.И. Брянчанинова от 15 июня 1617 г.”
32. Там же. — С. 304. “Допрос и очная ставка в Поместном приказе Г. Олешева и П.В. Брянчанинова 3 января 1628 г.”
33. Писцовая книга г. Вологды. — Вологда, 1904. — С. 85.
34. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11. “Дело о занесении в 6-ю часть Дворянской родословной книги рода грязовецкого помещика Брянчанинова Петра Александровича (1814—1854)”.
35. СторожевВ.Н. Материалы для истории… —Т. 1. —С.377—398. “Дело по челобитью вдовы И.П. Брянчаниновой и сына её В.Н. Брянчанинова с пасынком её Б.К. Брянчаниновым о повороте меновых их поместий.”
36. Там же. — С. 381. “Допрос и очная ставка в Поместном приказе И.П. Брянчаниновой с Б.К. Брянчаниновым.”
37. Там же. — С. 64. “Челобитная М.И. Беседного на П.К. Брянчанинова от 11 марта 1627 г.”
38. Там же. — С. 59—70. “Дело по челобитью вологжан М.И. Беседного и его вотчина П.К. Брянчанинова о полюбовном между ними разделе прожиточного поместья первого с его матерью, тётками и сестрами”.
39. Там же. — С. 60.
40. Там же. — С. 62.
41. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 36, 37.
42. Там же, л. 36 (об).
43. Там же, л. 37 (об).
44. Там же, л. 34.
45. Там же, л. 35.
46. Там же, л. 36.
47. Описание свитков… — Вып. 11. — С. 61.
Роспись родства: “Моему Герасимову дяде родному Борису Кириллову сыну Брянчанинову Борис Гаврилов сын Гневашев был Ему, Борису, по первой жене родной племянник, а Борисовская жена Евгения по муже своем дяде ж Борису племянница родная. А ныне та вдова Евгения идёт замуж дяди ж Бориса Брянчанинова за двоюродного его шурина другой жены, дяди ж моего Бориса за Гаврила Лукина. К сей росписи Герасимка Иванов сын Брянчанинов руку приложил.
За Борисом Брянчаниновым Борису Гневашеву была тётка в третьем колене, а шла за него вдовою, и отроду детей у неё с Борисом не бывало. А нонеча за Борисом Брянчаниновым замужем Михайлова дочь Шену-рова, а отец мой Лука Лукин был Михаилу Шенурову брат по матери.”
48. Описание свитков… — Вып. 13. — С. 34.
49. Описание свитков… — Вып. 11. — С. 61.
50. Описание свитков… — Вып. 8. — С. 40.
51. Описание свитков… — Вып. 3. —С. 50.
52. Там же.
53. Дворцовые разряды. —СПб., 1852. — Т. 3. — С. 529.
54. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 117.
55. Сторожев В.Н. Материалы для истории… — Т. 1, — С. 381.
56. См.: Савёлов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте. 1-ое полугодие. — М., 1907.
57. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 117.
58. Там же, л. 117.
59. Там же, л. 29.
60. Там же, л. 57.
61. Там же, л.81.
62. Там же, л. 58.
63. Там же, л. 85.
64. Там же, л. 81,82.
65. Там же, л. 48.
66. Лукомский Г.К. Вологдав её старине. — СПб., 1914. — С. 315.
67. Белова Н.Н. Книги из Покровского. /Красный Север, 1985. 22 сент.
68. Фоменко И.Ю. Словарь русских писателей XVIII в., вып. 1. — Л., 1988. — С. 126—127.
69. Там же.
70. ГАВО, ф. 1619.
71. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 59.
72. Там же, on. 1, д. 19, тетрадь № 5, л. 7.
73. Белова Н.Н. Книги из Покровского. /Красный Север, 1985. 22 сент.
74. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 59.
75. Там же, л. 140.
76. ГАВО, ф. 86, on. 1, д. 132. “Об утверждении опекуна к оставшемуся имению помещицы Елизаветы Брянчаниновой сына её Николая Петровича Брянчанинова.” (1859—1867).
77. Там же, л.47.
78. ГАВО, ф. 32,on.1,д.11,л.164.
79. Там же, л. 166—168.
80. Вороно М. Загадка старого рисунка / Лад. — 1993. — № 4. — С. 42.
81. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 37 (об).
82. Вороно М, Загадка старого рисунка / Лад. — 1993. — № 4. — С. 42.
83. ГАВО, ф. 31, on. 1, д. 1345, л. 1. “Прошение на имя вологодского губернского предводителя дворянства от Анатолия
Александровича Брянчанинова.” подано 19 августа 1915 года.
84. Русские писатели, 1800—1917. Биографический словарь. — М., 1989. — Т. 1.
85. Там же. — С. 338—339.
86. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 205.
87. Там же, л. 208—210.
88. ГАВО, ф. 86, on. 1, св. 25, д. 132.
89. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 220, л. 12.
90. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 118.
91. Там же, л. 153.
92. Там же, л. 154.
93. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 579, св. 57. “Дело по прошению дворянина Валериана Николаевича Брянчанинова о причислении его жены Веры Павловны и дочери Марии к дворянскому роду.” (1909).
94. Со слов Николая Александровича Белова, проживающего в д. Юрово Вологодской области, Грязовецкого района. — собрано Соколовой Л.Д.
95. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 579, л. 4.
96. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 4.
97. Там же, л. 4(об).
98. Там же, л. 4(об).
99. Белова Н.Н. Книги из Покровского.
100. Лукомский Г.К. Вологда в её старине. — СПб., 1914. — С. 304.
101. Белова Н.Н. Книги из Покровского.
102. Лукомский Г.К. Вологда в её старине. — С. 303,
103. Там же. — С. 305.
104. Белова Н.Н. Книги из Покровского.
105. Соколов Л. Епископ Игнатий. — Киев, 1915. — Ч. I. — С. 35.
106. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 182.
107. Там же, л. 174—175.
108. Там же, л.11.
109. Там же, л. 12.
110. Там же, л. 194.
111. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 220, л. 7—10.
112. ГАВО, ф. 31, on. 1, д. 1330.
113. Житие святителя Игнатия Брянчанинова //Канонизация святых. — М., 1988. — С. 119.
114. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 56, лл. 25(об.), 20, 20 (об.), 30, 32, 32 (об.), 34. (об.), 34 а, 3 9 (об.), 47 (об.)
115. ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 85.
QQQ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БРЯНЧАНИНОВЫХ
15 октября 1814 г. коллежский секретарь Александр Семёнович Брянчанинов, отец святителя Игнатия, обратился в Вологодское дворянское депутатское собрание с просьбой о внесении представителей его рода в Дворянскую родословную книгу и о выдаче ему дворянской грамоты на основании представленных им документов, подтверждающих дворянское происхождение.
Сделанные его рукой копии с этих документов, заверенные секретарём дворянства, хранятся в Государственном архиве Вологодской области и публикуется впервые, без извлечений.
Л.Н. МЯСНИКОВА (г. Вологда)
№ 1
ПАТЕНТ* НА ПОЖАЛОВАНИЕ ЧИНА КАПИТАНА АНДРЕЮ БРЯНЧАНИНОВУ — 23 ЯНВАРЯ 1737 г.
Божиею милостию мы, Анна императрица и самодержица Всероссийская и прочия, и прочия, и прочия.
Известно и ведомо да будет каждому, что мы Андрея Брянчанинова, которой нам служил в артиллерий квартирмейстером, дабы оказанной его в службе нашей ревностью и прилежностью, сего тысяща семьсот тридесять пятаго года генваря первагодня всемилостивейше пожаловали в капитаны от артиллерий.
Того ради мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим помянутаго Андрея Брянчанинова за нашего капитана от артиллерий надлежащим образом признавать и почитать. Напротив чего и мы надеемся, что он в сем ему от нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру надлежит,
Во свидетельство того мы сие собственною нашею рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели. Дан в Санкт-Петербурге лета 1737 генваря 23 дня.
* Патент — документ на право исполнения какой-либо должности.
Подлинной подписан собственною ея императорскаго величества рукою тако:
Анна.
Генерал фельтмаршал граф Христофор фон Минних2.
К подлинному печать приложена. При запечатании в коллегии иностранных дел № 1328-й.
(ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 4, рукопись, заверенная копия.)
№ 2
УКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ОБ ОТСТАВКЕ ОТ СЛУЖБЫ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БРЯНЧАНИНОВА — 8 МАРТА 1754 г.
1754 марта в 8 день по указу ея величества государыни императрицы Елисавет[ы] Петровны самодержицы Всероссийской и прочия, и прочия, и прочия дан сей ея императорскаго величества указ из государственной военной коллегии отставному от воинской и статской службы артиллерии обер-кригс камисару Андрею Михайлову сыну Брянчанино-ву. Для того генваря 27 дня сего 754* года в военную коллегию мемориалом из канцелярии главной артиллерий и фортификаций представлено челобитьем, поданным во оную канцелярию, помянутой Брян-чанинов объявляет—в службе де он из дворян с 713 году и во время той своей службы был в разных командированиях и при порученных комиссиях, также и в походах, и сражениях, и атаках, и от той службы получил болезни и ныне имеет: в половине головы лом, и непрестанно бывает великой шум, и правым ухом мало слышит, и временем идет гортанью кровь, также беспрестанно лом в корпусе от сильной в нем находящейся скорбутихи**, он же отягчен почечюем*** и иппохондрии**** и протчими многими припадки. А по осмотру артилериских доктора Бахерахта и штабс-лекаря Риттера показано, что он, Брянчанинов, имеет почечюн-ную болезнь, от которой великие припадки бывают, а именно: в голове великой шум, обмороки, лом в кресце и во всем корпусе и великая одышка. Ахотя долгое время пользован, однако мало пользы себе имеет и впредь иметь не будет, ибо оные болезни застарелые, к тому ж стар и по мнению их ни в какой службе и у дел быть не может.
И требует она, артилериская канцелярия, чтоб ево, Брянчанинова, за теми болезньми от воинской и статской службы отставить с награжде-
* Здесь и далее опущена цифра 1 — тысяча.
** Скорбут — авитаминоз, возникающий при длительном отсутствии в пище витаминов.
*** Почечуй — то же, что и геморрой.
**** Иппохондрия — болезненное состояние, заключающееся в чрезмерном страхе за своё здоровье, свойственное ряду психических заболеваний.
нием за долговременную и беспорочную службу по силе указов ранга.
А скаскою в коллегии он, Брянчанинов, показал от роду себе пятьдесят шестой год в нынешнем 749 году апреля в 25 день. И служа был в походах в низовом корпусе и во многих партиях и сражениях: в Польше при атаке города Гданьска3, и в турецкую войну посылай был на почте в Ачаков, и в походе к Днепровской экспедиции4, и в протчих походах же, командированиях и коммисиях беспорочно. Ис помещай, в разных уездах мужеска полу за ним триста душ.
Желает на свое пропитание и по усмотрению коллегий он в воинской и статской службе по ево болезням и слабости здоровья быть не может.
Того ради минувшаго февраля 26 дня по указу ея императорскаго величества в государственной военной коллегий обще с собранным генералитетом определено об отставке ево, Брянчанинова, за показанными болезнии и долговремянную и беспорочную службу от воинской и статской службы с награждением брегадирскаго ранга ея императорскому величеству подать всеподданнииший доклад и требовать всеми-лостивейшаго указа. А до получения на оной всевысочаишей конферма-ции* отпустить в дом ево, а из артилерии выключить, которой с сим ея императорскаго величества указом и отпущен.
У подлиннаго указу печать приложена и подписан тако:
Степан Апраксин5
Секретарь Алексей Немов
Канцелярист Никита Ашурков
У подлиннаго указа ея императорскаго величества печать приложена.
Печатной пошлины 50.14 к[опеек] взято.
(ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 4 об., 6,6 об., рукопись, заверенная копия.)
№ 3
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТСТАВКЕ ОТ ВОЕННОЙ И ШТАТСКОЙ СЛУЖБЫ СЕМЁНА АНДРЕЕВИЧА БРЯНЧАНИНОВА6— 13 ЯНВАРЯ 1772 г.
По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской и прочия, и прочия, и прочия.
Объявитель сего армий порутчик Семён Брянчанинов служил сначала артилерии во 2 фузелерном полку** с тысяча семьсот шезтьдесят пятого, в полку лейб-гвардий Преображенском — с семьсот семьдесят перваго, а сего семьсот семьдесят втораго года генваря в первый день
* Конфирмация — утверждение высшей государственной властью.
** Фузелерный полк — в XVIII в. полк, вооружённый гладкоствольными кремнёвыми ружьями (фузеями), заряжавшимися с дула.
по силе высочаише ея императорскаго величества на поднесенном от полку доклад конфирмации по прошению ево за болезьми от воинской и статской служб и от всех дел из фурзеров* отставлен с награждением за добропорядочную службу показанным от армии порутчичьим чином.
Того ради жить ему в России свободно.
Во свидетельство чего и сей абшид** лейб-гвардии Преображенска-го полку из полковой канцелярии дан в Санкт-Петербурге тысяча седмь-сот семьдесят втораго года генваря в третиинадесять день.
Подлинной апшит подписан тако и печать приложена:
Ея императорскаго величества всемилостивейшей государыни моей генерал-майор лейб-гвардии Преображенскаго полку пример-маиор Иван Маслеев.
Полковой секретарь Михаил Неклюдов.
(ГАВО, ф. 32, on. 1,9.11, л. 7, рукопись, заверенная копия.)
№ 4
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТСТАВКЕ
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА БРЯНЧАНИНОВА — 24 ОКТЯБРЯ 1803 г.
По указу его величества государя императора Александра Павловича самодержца Всероссийскаго и прочия, и прочия, и прочия.
Предъявитель сего служивший в Александрийском гусарском полку корнетом и по поданному прошению высочайшим его императорскаго величества приказом, отданном сего октября 1 числа, уволенный от полевой службы с повышением чина для определения к штатским делам Александр Семенов сын Брянчанинов по выключке из полку отпущен з сим в дом его, состоящей Вологодской губернии в Грязовецком округе, коему как в следовании с будущим, так и в прожитии где надобность ему укажет, благоволит земское начальство и до кого принадлежность будет не делать в том ему препятствия.
Для чего и сей от Александриискаго гусарскаго полка за подписями и полковою печатью дан в штаб-квартире Минской губернии, в местечке Глубоком, октября 24 дня 1803 году.
Подлинной подписан тако:
Его императорскаго величества всемилостивеишаго государя моего
* Фурзер — стрелок-пехотинец.
** Абшид — букв. с немецкого — прощание, отставка, имеется в виду документ об отставке.
от кавалерии генерал-майор Александриискаго госурскаго* полку шеф ордена военнаго святаго великомученика и победоносца Георгия чет-вертаго класса ковалер граф Лансберг.
С подлинным сверил секретарь дворянства Филипп Куприянов.
(ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 7, рукопись, заверенная копия.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Брянчанинов Андрей Михайлович — прадед Дмитрия Александровича Брянчанинова, святителя Игнатия. (ГАВО, ф.32, оп.1, д. 11, л.8 об., 202).
2. Миних БухардКристоф. (9. 05.1683—16(27). 10.1767) — граф, военный и государственный деятель, президент военной коллегии с 1732 г. (БСЭ. — М., — Т.16, — С. 290.)
3. 7 июля 1734 г. русские войска заняли г. Гданьск, чем предрешили исход войны за польское наследство (1733—1735 гг.) между Россией, Австрией и Саксонией с одной стороны и Францией с другой. На польский престол был возведён саксонский курфюрст Август III, и сохранено влияние России на Польшу. (БСЭ. — М., 1975,
— Т.20, — С.287.)
4. В русско-турецкую войну (1735—1739 гг.) служил в Днепровской армии фельдмаршала Б.К. Миниха. В июле 1737 г. эта армия штурмом овладела турецкой крепостью Очаков. (БСЭ. — М., 1975,
— Т.22, — С.418.)
5. Апраксин Степан Фёдорович (30. 07. 1702—06. 08. 1758.)
— русский генерал-фельдмаршал, участник русско-турецкой войны, вице-президент военной коллегии. (БСЭ. — М., 1970. — Т.2.
— С.134.)
6. Брянчанинов Семён Андреевич — отец Александра Семёновича Брянчанинова, дед Игнатия Брянчанинова (ГАВО, ф. 32, on. 1, д. 11, л. 8 об., 202, д. 47, л. 177—179; ф. 85, on. 1, д. 7, л. 65—70).
* Так в документе, имеется в виду гусарского.
QQQ
Н.В. ФУРАШОВА
(г. Вологда)
ОБЗОР ФОНДОВ ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО УЕЗДА
В период государственных реформ и формирования новых органов власти и управления повысился интерес общества к деятельности учреждений народного самоуправления, традиционно бытовавших в России до советской власти, в частности к деятельности земских учреждений.
При учреждении органов земского самоуправления в 1864 году правительство исходило из того, что “заведывание земскими делами уездов и губернии должно быть вверено самому населению уезда и губернии на том же основании, как хозяйство частное предоставляется распоряжению частного лица, хозяйство общественное — распоряжению самого общества”, ибо “… никто не может усерднее и заботливее вести хозяйственные дела как тот, кому оно принадлежит; никто не чувствует последствия дурных распоряжений и не несет за них такой материальной ответственности, как сам хозяин дела”1.
“О местных пользах и нуждах” населения Грязовецкого уезда Вологодской губернии “ведали” Грязовепкое уездное земское собрание и Грязовецкая уездная земская управа.
О том, насколько рачительно и успешно они хозяйствовали, как радели о здоровье и счастье своих земляков, историки, краеведы, все, кому дорога и интересна история своей малой Родины, узнают, обратившись к документам, отложившимся в деятельности этих учреждений.
Помочь им в поиске нужной информации призван предлагаемый вниманию читателей обзор документов, в котором автор попытался максимально подробно охарактеризовать весь богатый и разнообразный комплекс материалов, всесторонне раскрывающих деятельность Грязовецкого земства.
Документы земских учреждений Грязовецкого уезда в количестве 405 дел за 1870 г. — март 1918 г. поступили в Государственный архив Вологодской области в 1929 г. из г. Грязовца, вероятно, из отдела народного хозяйства Грязовецкого райисполкома.
22 сентября 1870 г. состоялось первое Грязовецкое уездное земское собрание. Земские собрания являлись распорядительными органами земств, избирались сроком на три года.
Они утверждали земский бюджет, распределяли, “раскладывали” земские повинности, контролировали деятельность своего исполнительного органа — земской управы. Земствам было дано право облагать население специальным земским сбором. Помимо него основу земского бюджета составляли налоги на недвижимое имущество — землю, дома, фабрики, заводы, торговые заведения.
Расходы земства делились на обязательные и необязательные. Содержание гражданских управлений, тюрем, мировых судов и пр. были обязательными, расходы же на здравоохранение и народное образование считались необязательными.
Правительство ограничило права земств лишь решением хозяйственных вопросов, строго регламентировало и контролировало их деятельность. Несмотря на это “земство сумело пустить глубокие корни и развить за сравнительно короткий период своей жизни многообразную и весьма плодотворную деятельность”2 во многом благодаря неутомимой и самоотверженной работе земских деятелей, их эрудиции и опыту, их искреннему стремлению улучшить жизнь народа.
Вот, например, какую клятву давали уездные гласные “перед вступлением в отправление своих обязанностей”: “…Возложенный долг выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу Государства. Повиноваться начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого требует долг гражданина перед Отечеством”, клялись быть честными, добросовестными и “не нарушать клятвы из корысти, родства, дружбы и вражды”, осеняли себя крестным знамением и подписывались3.
Первым председателем Грязовецкой уездной земской управы был избран коллежский советник Алексей Александрович Левашов, кавалер орденов Святого Владимира 4 степени. Святой Анны 2 степени и Святого Станислава 2 степени, авторитетный и заслуженный человек, одновременно бывший и уездным предводителем дворянства.
Членами управы являлись коллежский секретарь Дмитрий Флав. Инихов и 2-ой гильдии купец Александр Иванович Ланской, должность секретаря исполнял титулярный советник Петр Ермолаевич Сперанский4.
Экономические мероприятия земств были направлены на приспособление крестьянских хозяйств к условиям рынка. Земства устраивали сельскохозяйственные выставки, опытно-показательные станции, создавали артели кустарей, содействовали сельскохозяйственному кредиту, привлекали агрономов и ветеринаров.
В фондах уездного земского собрания и уездной земской управы имеется обширный комплекс документов о роли земских учреждений в развитии земледелия и агрономии в уезде. Это, в первую очередь, доклады и отчеты уездной земской управы земскому собранию о внедрении системы участковых агрономов в уезде, деятельности экономического совета земства, образовании и оборудовании агрономических участков, устройстве прокатных пунктов сельскохозяйственных орудий и машин, развитии травосеяния и кормодобывания.
Определенный интерес представляют документы о создании и действии в пригороде г. Грязовца показательного земского огорода, который был создан по инициативе земства в 1910 г. В документах имеются сведения о выращиваемых культурах, их сортах и урожайности (ф. 49, on. I, д. 303; ф. 39 , on. I. д. 46).
Доклады и отчеты земской управы отражают организационную работу земства, направленную на улучшение экономического положения крестьян, увеличение продуктивности крестьянских хозяйств. Большое внимание земские учреждения уделяли внедрению в жизнь культурных агрономических мероприятий и распространению сельскохозяйственных знаний среди крестьян путем устройства в уезде сельскохозяйственной библиотеки, приглашения инструктора по пчеловодству, устройства сельскохозяйственных выставок, системы метеорологических наблюдений, устройства временных передвижных курсов для крестьян при земских училищах. Земские учреждения считали работу по распространению сельскохозяйственных зна ний среди крестьян “основой для сознательного отношения к своему хозяйству в смысле рационального приложения труда и капитала”.
Земские учреждения добились определенного успеха в развитии медицинского дела в уезде. При их содействии открывались больницы, аптеки, фельдшерские и акушерские пункты. Была создана оригинальная система медицинского обслуживания сельского населения, внедрено в практику профилактическое направление. В фондах земского собрания и управы имеются доклады и отчеты земской управы о состоянии и работе земской больницы за 1870, 1891, 1896—1898 гг., об открытии в 1915 г. при земской больнице инфекционного отделения, доклады за 1898 г. об упорядочении в уезде аптечного дела, открытии в уезде, по ходатайству волостных сходов, фельдшерских и акушерских пунктов.
В фонде уездной земской управы в документах об устройстве в Авнегской волости Святогорской больницы в 1904 г. имеется подробное описание помещичьей усадьбы Батаново, всех ее служб, где предполагалось устройство больницы.
Земские врачи стремились сочетать лечебное дело с санитарно-оздоровительной работой и участием в общекультурной пропаганде на селе.
В этом отношении интересны журналы объединенных заседаний врачебно-санитарного совета и школьной комиссии при земской управе, на которых рассматривались вопросы о прививках, открытии детских яслей и др.
Важнейшее место в санитарно-просветительской деятельности земских врачей уделялось борьбе “с народным злом — алкоголизмом”. Это отражено в журналах заседаний врачебно-санитарного совета при земской управе, в докладах и отчетах “по медицинской части” “о народном здравии”.
В журнале заседания врачебно-санитарного совета при земской управе от 19 апреля 1914г. санитарный совет высказался за принятие следующих мер:
“1. Как радикальную меру — закрытие винных и пивных лавок по желанию самих обществ.
2. Временное закрытие казенных винных лавок и пивных, а также торговли спиртными напитками в трактирных заведениях во время ярмарок, базаров и при других скоплениях народа.
3. Необходимость ограждения детей от дурного влияния взрослых алкоголиков до достижения ими более сознательного возраста, для чего необходимо продление срока школьного обучения, здесь первенствующую роль должны занять реорганизованные и хорошо оборудованные школы, на помощь которым должны прийти попечительства.
4. Содействие устройству профессиональных школ без ущерба школьному образованию.
5. Введение в школах бесед и чтений с учениками по алкогольному вопросу с предварительным ознакомлением учащихся по этому вопросу посредством лекций или специальных книг.
6. Заботы о физическом образовании учащихся, устройстве площадок подвижных игр, экскурсий.
7. Устройство чтений и бесед со взрослыми.
Желательно устройство побочных чтений с кинематографической демонстрацией, для чего просить управу возбудить ходатайство о приобретении кинематографа.
8. Устройство воспитательно-просветительных учреждений, как то:
а) народных домов;
б) библиотек-читален;
в) спектаклей.” (ф. 49, on. 1, д. 112, л. 46, 46 об.)
Интерес для исследователей представляют также отчеты о борьбе с эпидемиями тифа, скарлатины, оспы, коклюша за 1891, 1896 гг., доклады об участии Грязовецкого земства в работе “Общества борьбы с заразными болезнями” за 1896 г., о научных командировках врачей земства в 1910 году.
В фондах земских учреждений отложились документы о развитии и состоянии ветеринарного дела в уезде. Это отчеты за 1916 г., ведомости болезни скота за 1917 г., программа делегатского доклада о состоянии ветеринарного дела в уезде съезду медико-ветеринарного персонала и представителей населения губернии 12—19 сентября 1917 г. и доклад на съезде заведующего ветеринарным отделом. Любопытны документы (доклад земской управы, отчеты, статистические сведения) о работе в уезде и г. Грязовце окулистического отряда Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых и об участии в его работе земских врачей в 1896 г. (ф. 49, on. I, д. 14). Земские учреждения накопили богатый опыт в организации статистических наблюдений. Предметами земской статистики были, главным образом, состояние сельского хозяйства, доходность и ценность земель, недвижимого имущества, а также народное образование, санитария, врачебное дело. Органы земской статистики проводили исследования экономики сельского хозяйства, промышленности, торговли, страхования.
В фондах земских собрания и управы имеются ведомости о состоянии хлебозапасных магазинов, общественных хлебных запасов за 1870—1879, 1881, 1882, 1884—1886, 1888, 1891—1893, 1895—1899 гг. по волостям, статистические сведения о пчеловодческих хозяйствах уезда по волостям за 1911—1918 гг., посеве и урожае хлебов за 1916 г., ведомости по учету скота по деревням за 1916 г., статистика справочных цен на провиант и фураж за 1917, 1918 гг., сведения о количестве казенных земель и лесов за 1906—1911,1913 гг., ведомости об эпидемических заболеваниях в уезде за 1914, 1916, 1917 гг., сведения о потреблении населением уезда водки за пятилетие 1909—1913 гг.
В фондах земских учреждений имеются документы, характеризующие развитие промышленности и торговли в уезде.
Это списки торгово-промышленных заведений уезда за 1907—1908, 1910—1912 гг., сведения о кирпичных заводах г. Грязовца с указанием
владельцев за 1906 г., ведомости владельцев маслобойных заводов за 1906 г., списки лиц, имеющих торговые предприятия в г. Грязовце.
В этих документах указаны все торгово-промышленные заведения города и уезда по волостям и селениям, от мелочных лавок до заводов, с указанием владельцев, первоначальной стоимости заведений, их доходности. Определенный интерес представляют сведения о переоценке лесопильного завода купца Геллера в 1894 г. (ф. 49, on. 1, д. 155), оценочные ведомости наиболее крупных предприятий уезда за 1906 г. — винокуренных заводов П.Д. Виноградова, Грязева, А.А. фон Гилленшмидт, маслодельных заводов Грачева и К, Занина, сыроваренных — фон Гилленшмидт, кожевенных — Пальникова и Волоцкого. В этих ведомостях дана оценка зданий, построек, орудий производства (ф. 49, on. 1, д. 163).
Интересны статистические сведения о маслобойных заводах купцов братьев Морозовых в Раменской, Жерноковской, Степуринской, Огарковской и Авнегской волостях за 1912, 1913 гг., с указанием наличия оборудования, стоимости заводов, их доходности; сыроваренном заводе в с. Плоском, принадлежавшем Анне Александровне фон Гилленшмидт, за 1906 г., с указанием времени постройки, описанием оборудования, вырабатываемой продукции, производительности труда, количества рабочих, продолжительности рабочего дня, размеров оплаты труда рабочих.
Интенсивно развивающееся в начале XX века дробление крупных земельных владений, увеличение числа мелких владений и быстрый рост мобилизации мелкой земельной собственности видны из таких документов, как списки дворян уезда, владельцев имений, с указанием количества принадлежавшей им земли за 1905, 1908—1913 гг. (ф. 49, on. 1, д. 173); ведомости об изменениях в количестве земельных владений, сравнительно 1908 и 1911 годы; сведения о количестве казенных земель и лесов по уезду за 1908—1911 гг., с указанием валовой и чистой доходности с них; именной указатель собственников-землевладельцев уезда за 1874—1894 гг. (ф. 49, on. 1, д. 292).
Народное образование являлось одной из главных забот земства. В архивных фондах земских учреждений имеется обширный комплекс документов, которые показывают состояние народного образования в Грязовецком уезде и роль земства в его развитии: отчеты инспектора народных училищ за 1912/1913 гг., 1915 г., доклады земской управы о состоянии земских училищ (сравнительные данные за 1902—1906 гг., 1911, 1912, 1918 гг.), доклады о школьном строительстве за 1911—1913 гг., состоянии начальных училищ. Документы всесторонне
раскрывают картину развития народного образования в уезде. В них даны сведения о количестве и составе преподавателей, их образовании, материальном обеспечении учителей, количестве учебных заведений, сведения о количестве и составе обучаемых по волостям и селениям. В приведенных статистических данных обращает на себя внимание незначительный процент обучаемости девочек, которых училось в два раза меньше, чем мальчиков. Объяснялось это тем, что еще далеко не все крестьяне ясно сознавали значение грамоты для женщин. Крестьянин, обучая детей грамоте, чаще всего имел в виду утилитарное ее значение. Мальчику, по его мнению, грамота нужна потому, что он впоследствии должен отбывать воинскую повинность, нести общественные должности (сборщика, старшины, сотского и т.д.). Девочка же будет вести хозяйство у себя в деревне, где может вполне обойтись и без грамоты.
Деятельность земств по внешкольному и профессиональному образованию отражена в докладах земской управы по этим вопросам. В них имеются сведения об открытии воскресных школ, повторительных классов и курсов для подростков и взрослых, организации народных чтений при училищах, народных библиотек, общеобразовательных экскурсий. В докладе земской управы за 1910 г. приведен список краеведческой литературы, рекомендованной учительским библиотекам уезда, в том числе С.А. Непеин “Вологда прежде и теперь”, А.Е. Мерцалов “Вологодская старина”, Н. Коноплев, “Святые Вологодские края” и др. (ф. 49, on. 1, д. 34).
Интересны высказывания земских деятелей на первом Грязовец-ком демократическом уездном земском собрании, состоявшемся 3 декабря 1917 г. В заседании принял участие председатель исполнительной комиссии уездного земства И.С. Скотников, который в своем выступлении остановился на 50-летней истории земской деятельности, развитии земской жизни и земского дела с начала его основания, подчеркнул периоды развития земских учреждений, сказав, что “земство не должно быть ни правым и ни левым, не должно быть партийным, оно должно быть просто хозяином своей земли, оно должно быть отцом своих детей — беспристрастным, строгим, но милостивым. В этом ведь залог правильного развития земской жизни” (ф. 49, on. 1, д. 209, л. 20 об.).
И.С.Скотников — представитель третьего земского элемента — видел укрепление начал самоуправления и земского творчества в существовании и деятельности Учредительного собрания — “хозяина земли Русской”. Он считал, что прийти на помощь Учредительному
собранию должны “разбросанные по лицу земли нашей Родины земские управления” (ф. 49, on. 1, д. 209, л. 21).
В своем приветственном слове поддержал Учредительное собрание и представитель Временного уездного комитета И.А. Пяткин.
Представитель уездного Земельного комитета П.И. Грабя-Мураш-ко в своей речи отметил, что “если раньше земство являлось органом самоуправления, то в руках настоящего земства сосредоточена вся полнота власти не только самоуправления, но и местного управления”. (ф. 49, on. 1, д. 209, л. 21 об.)
От уездного Совета крестьянских депутатов выступал А.И. Хомяков, который тоже поддержал Учредительное собрание. Закончил выступление А.И. Хомяков словами: “Да здравствует молодое демократическое земство, могущее подготовить законность снизу и самоуправление. Да здравствует страдалец Русский народ, да здравствует Республика и Учредительное собрание” (ф. 49, on. I, д. 209, л. 22). Выступавшие на первом демократическом уездном земском собрании единогласно поддержали Учредительное собрание и избрали в Петроград для его защиты А.И. Хомякова. Земские учреждения просуществовали до марта 1918 г.
В фонде Грязовецкой уездной земской управы имеется акт о сложении управой полномочий, в котором говорится, что 22/9 марта 1918 г. в 6 часов вечера в Грязовецкую уездную земскую управу явились члены Грязовецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и заявили составу управы, что на заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, состоявшемся 21/8 марта, вынесено постановление об упразднении уездных земских гласных и всего состава уездной земской управы с переименованием последней в отдел народного хозяйства при Грязовецком Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ф. 49, on. I, д. 208, л. 111).
С упразднением, согласно постановления Грязовецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 8 апреля 1918 г., уездной земской управы все полномочия последней и все хозяйство было передано уездному отделу народного хозяйства.
Вновь созданный отдел помещался в здании бывшей уездной земской управы. Отдел выполнял следующие работы: ремонт начальных училищ, наем помещений под них; заготовку дров для училищ, больниц и др. учреждений; снабжение всех советских учреждений, больничных зданий, фельдшерско-акушерских пунктов, как в городе, так и в уезде, канцелярскими и другими принадлежностями; составление разных отчетных данных и других
сведений по уезду; ведение всей переписки, касающейся народного хозяйства.
На основании постановления Грязовецкого уездного исполнительного комитета от 22 августа бывший отдел преобразован в Совет уездного народного хозяйств, который стал функционировать с 28 августа 1918 г. После этого функции органов городского и земского самоуправления были окончательно упразднены.
Из документов следует, что за полвека своего существования земские органы самоуправления принесли немалую пользу для развития уезда. Они решали хозяйственные дела уезда: поддержание дорог местного значения; развитие земледелия, торговли и промышленности; попечение о народном образовании, здравоохранении, тюрьмах, земской почте; заведование земскими капиталами, денежными и натуральными повинностями. С конца 80-х гг. и в начале 90-х гг. земская деятельность стала активизироваться в сторону развития практической деятельности.
В земских учреждениях стала активно проявлять себя служащая интеллигенция.
Земские школы сыграли важную роль в распространении грамотности и начального образования среди крестьян. Декретом ВЦИК от 16 октября 1918 года земские школы были упразднены. Начальным и средним школам, состоявшим в ведении Народного комиссариата просвещения было присвоено наименование “единых трудовых школ”.
В области экономических мероприятий деятельность земств была направлена на укрепление развивавшихся индивидуальных хозяйств. С этой целью проводились агрономические мероприятия, устраивались сельскохозяйственные выставки и показательные огороды. В руках земства было также продовольственное дело. Они ведали хлебными запасами в уезде. Значение земской статистики также трудно переоценить.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Юбилейный земский сборник. — СПб., 1914. — С.З.
2. Юбилейный земский сборник. — СПб., 1914. — С.7.
3. ГАВО, ф. 49, on. I, д. 209, л. 4.
4. Памятная книжка Вологодской губернии на 1873 г. — С. 10,15.
QQQ
И.А. КОЖЕВНИКОВА
(г. Вологда)
ИЗ ИСТОРИИ ГРЯЗОВЕЦКОЙ ЧК
В нашей стране долгое время господствовал приоритет прав государства над правами личности, культивировалось неуважение к частной собственности. Истоки следует искать в истории первых революционных лет. Немало этому способствовали чрезвычайные комиссии, имевшие право арестовывать, обыскивать, конфисковывать, реквизировать, без суда и следствия вершить судьбы людей.
7 декабря 1917 года Совнарком образовал Всероссийскую, а 22 марта 1918 года — местные ЧК по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией1. Отождествлявшиеся с боевыми организациями, ЧК тем не менее большей частью имели дело с мирным населением. Так случилось, в частности, в Грязовецком уезде, где не было ни восстаний, ни заговоров, ни мятежей.
8 данной работе сделана попытка показать характер деятельности Грязовецкой уездной чрезвычайной комиссии. К сожалению, документальная база исследования ограничена, так как архивных дел Грязовецкой уездной и Вологодской губернской комиссий почти не сохранилось. В настоящей статье использованы документы Грязовецкой ЧК, обнаруженные, в основном, в фондах Грязовецкого укома ВКП (б) — (ВОАНПИ, ф. 2446) и Грязовецкого уисполкома (ГАВО, ф. 485). В этих фондах отсутствуют дела, которые ЧК заводила на конкретных лиц. (Сохранилась лишь их опись).
По этой причине работа не может претендовать на всеобъемлющую полноту.
В-1922 году, отмечая пятую годовщину городской организации РКП, грязовецкие большевики вспоминали минувшие дни и, в частности, уездную ЧК: “Организованный нами отряд ЧК в 60 человек оказался одним из лучших в республике и заслужил похвалу т. Троцкого”. Начальником отряда вначале был В.А. Егоров, а потом И.Д. Кунов2. Официальное решение о создании Грязовецкой ЧК со следственным аппаратом и разведкой относится к 13 августа 1918 года3. По словам Егорова, Грязовецкая ЧК, “к великому счастью, не имела в уезде ни одного конфликта, который дышал бы человеческой кровью”4.
Комиссия руководствовалась марксистско-ленинской установ-
кой: “давить буржуазию”5. Поэтому первым делом ЧК брала на учёт “буржуазию и полубуржуазию”. В документах Грязовецкой ЧК имеются списки этих лиц за 1918 год. В них занесены люди, имеющие какое-либо отношение к торговле: “торговец”, “бывший торговец”, “мелкий торговец”, занимающийся “крупной торговлей”. В списки попали содержатели чайных, ресторана. К буржуазии причислены домовладельцы и даже семейство цыган — барышников, разносчики без определённых занятий. Только по городу Грязовцу в списки ЧК попали более 150 человек6.
В ЧК поступали списки “деревенских кулаков и лиц, ведущих антисоветскую агитацию”. Например, Степуринский волостной исполком прислал список “врагов Советской власти” и просил принять меры, “какие следует за контрреволюционные выражения с их стороны за последнее время”7. Ново-Никольский комиссариат, Жер-ноковский ВИК направляли списки лиц, “замеченных в противосо-ветской агитации, шипящих в деревнях и на собраниях”, или “кулаков.., которые до сих пор шипят на собраниях и в деревнях”8.
Представление об основных занятиях комиссии даёт опись дел, сданных при её ликвидации. За неполные пять месяцев 1918 года комиссия завела более ста персональных и групповых дел по различным поводам: по обвинению в спекуляции продуктами питания, попытках вывоза съестных припасов сверх установленных норм, незаконном ношении оружия, взяточничестве, хищениях, в укрывательстве продуктов и товаров от учёта. Дела заводились за агитацию против советской власти, враждебное отношение к комбедам, сочувствие белогвардейцам, неисполнение постановлений советской власти, оскорбление Красного знамени во время манифестации, распространение слухов, несвоевременную явку на службу9.
За период с 19 августа по 29 октября 1918 года ЧК реквизировала продукты у восьмидесяти человек. У некоего Кулакова взято 3 пуда масла, у Балыкова — 5 пудов ржи, Фокина — 4 пуда муки, Башкина — 22 фунта свежего мяса. Брали также неизвестно у кого, так и писали: “неизвестный — мука — 1 пуд 5 фунтов”, “неизвестный — папиросы разных сортов 1955 шт. и табаку 1 фунт”. В числе реквизированного — овёс, картофель, горох, сахар, чай, крупы, селёдка10.
Накануне годовщины октября комиссия пошла с обыском в прилегающие к Грязовцу монастыри и имения. Целью было “установить, не имеется ли у буржуазии каких-либо связей с белогвардейцами и… нет ли скопления или проживания каких-либо
подозрительных лиц”11. Ничего подозрительного чекисты не обнаружили, но в селе Плоском в имении Гилленшмидт при обыске захватили золото, вино, облигации и другие вещи. Владелица имения предъявила охранную грамоту12, выданную управлением архивным, библиотечным и музейным делом при губотделе народного просвещения. Отдел брал на учёт и под охрану два жилых дома Гилленшмидт со всем инвентарём, библиотекой и другими художественно-историческими ценностями, а “посему никаким реквизициям или конфискациям и даже обыскам без ведома управления (они — ред.) не подлежат”13.
Как потом оказалось, часть изъятых вещей принадлежала семье сотрудника Генерального консульства Украинской державы в Москве А.В. Ляшенко — его жене Н.В. Ляшенко и её матери Ю.Ф. Цвет, которые в это время жили в имении. Ю.Ф. Цвет сообщила об обыске в Генеральное консульство. Уездные чекисты просили разъяснения у старших коллег, как им поступить с изъятыми вещами. Вологодская губернская ЧК предложила вещи немедленно выслать ей14, а Северная ЧК из Петрограда объяснила, что к обыскам и арестам лиц иностранного подданства нужно относиться очень осторожно. Что касается конфискации золотых вещей, учили вышестоящие чекисты, то они конфискуются согласно декрету, если золотая вещь весит больше 15 золотников18. Каждому лицу разрешается иметь не больше трёх вещей. Если же лицо богатое, то можно конфисковать и без всякого декрета. “В данном случае считаем нужным названные вещи конфисковать”, — инструктировал Петроград16.
Этот документ показывает, что чётких критериев у чекистов не имелось и они могли действовать на глазок, без всякого декрета, Грязовецкая ЧК приняла соломоново решение: вернула золотые украшения весом 42 золотника, 18 долей17, остальное конфисковала, вино уничтожила, а два тесака, имеющие коллекционное значение, сдала в отдел народного образования18.
Расследование по делу Дмитрия Флегонтовича Курочкина показывает механизм возникновения дел об антисоветской агитации. Сигнал поступил от Авнегского волостного совета. Из сопутствующих документов можно понять, что Курочкин хвалил местную коммуну, но спрашивал, нельзя ли сделать так, чтобы не грабить богачей, а чтобы они несли туда своё добро сами. Хождение с красным флагом сравнил с шествием Христа. Курочкина обвинили и в том, что он, якобы, говорил: “В Петрограде все заводы и рабочие перешли на сторону белой гвардии”19. Основанием для разбирательства послу-
жил частный разговор со знакомым, который и донёс на собеседника. Так в недрах ЧК создавались условия для деятельности преемника — государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, которое установило тотальную слежку за всем населением страны.
Документы свидетельствуют, что обысками и конфискациями на местах начали заниматься и члены волостных исполкомов, а ЧК принимала от них изъятые ценности. При этом возникало много недоразумений и жалоб. Жительница Степуринской волости М.С. Сняткова заявляла в ЧК: “Членами волостного Степуринского исполкома 23 ноября были забраны у меня золотые вещи и деньги, 4248руб. 50коп., из них 180 руб. золотыми и Труб. 50коп. серебром, а остальные кредитом, и направлены в Грязовецкую чрезвычайную комиссию, которую и прошу о выдаче мне означенных вещей и денег. 17 декабря 1918 года”20.
На заявление дана справка: “Золотые и серебряные монеты на сумму 187 руб. 50 коп. внесены в доход Республики по квитанции.., остальная сумма 4061 руб. зачислена Степуринским волсоветом в уплату местного сбора”.
Видимо, жалобы пострадавших доходили до Вологды, потому что по рекомендации заведующего провинциальным отделом губчека часть предметов, необходимых “для нужд домашнего обихода”, владельцам была возвращена, причём с них бралась подписка о сохранении их же вещей. Остальное серебро можно было распродавать21.
Это разрешение вызвало поток заявлений исполкомовских и парткомовских работников по поводу приобретения серебра. Уездный инструктор РКП Ф.В. Милютин писал: “Прошу уездный исполком дать право на приобретение вещей первой необходимости домашнего обихода из вещей, реквизированных у буржуазии, и предстоящей их продажи (так в документе — И.К.) между советскими работниками. Я, как пролетарий, в вещах домашнего обихода имею острую нужду”22. Машинистка А.И. Васильева: “Прошу президиум исполкома при распределении конфискованных вещей у Язикова и Пестри-кова дать мне несколько чайных ложек, т.к. я таковых совершенно не имею”23.
Обнаружилась недостача некоторых предметов. Чтобы покончить с ажиотажем вокруг распродажи и недостачи, президиум исполкома выносит решение прекратить дальнейшее расследование о недостающих реквизитах, а всё остальное раздать согласно особому списку ответственным партийным и советским работникам под
расписку с уплатой номинальной стоимости. Не относящееся к домашнему обиходу было оставлено в распоряжении исполкома, а шесть филигранных рюмочек отдано в музей памятников старины и искусства24.
Фигурируют документы о раздаче ценных предметов из числа конфискованных (серебряные стопки, кубок, стаканчик, дамское портмоне) Грязовецкому и Вологодскому спортклубам в качестве призов и подарков. В 1920 году, уже после ликвидации Грязовецкой ЧК, её бывшему председателю Кунову, отъезжавшему на Украину, были вручены серебряные чайные и столовые ложки, сетка, солонка, нож, кофейник25.
Действия чрезвычайных комиссий по всей стране вызывали ропот и недовольство, на что Ленин в речи перед чекистами отвечал:
“…это обывательские толки, ничего не стоящие.., и когда нас упрекают в жестокости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм… Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата”26.
В обстановке разрухи, голода, нехватки самого необходимого через руки чекистов проходило много конфискованных товаров и продуктов. Так, например, по сведениям от б октября 1918 г. в кладовой Грязовецкой ЧК хранилось 8 пудов сливочного масла, 8 пудов ржаной муки, 3 пуда сахару, 1 пуд картофеля, 1 пуд монпансье, 7 пудов белой муки и т.д.27
Вероятно, слухи об использовании грязовецкими чекистами этих продуктов для себя достигли губчека, потому что 5 ноября 1918 г. Грязовецкая ЧК направляет туда оправдательное письмо: “…бесплатной выдачи каких-либо продуктов комиссией не производится. Если и бывают случаи, то согласно положению… таковые производятся по установленным ценам, указанным продовольственным отделом” .28 Имеются документы о распродаже продуктов среди сотрудников “чрезвычайки”. Например, 12 декабря им отпущены масло сливочное, ландрин, мука пшеничная, ржаная, сахар, чай, соль, спички, папиросы на сумму 1498 рублей29.
Сотрудники ЧК имели доступ и к промышленным товарам. Между ними была распределена мануфактура, конфискованная у Шулегина и Гурылёвой, а также у гражданина д. Кузищево Гаврильцевской волости Соколова (в последнем случае, судя по большому ассортименту тканей, можно предположить, что был ликвидирован магазин)30.
Так, председатель ЧК И.Д. Кунов приобрёл чёрный ластик,
белый с красной полоской ситец, бумажное тёмно-серое трико, дамский кашемир, чесунчу, чёрный подкладочный ластик, белую кисею, цветной батист, белый мадепалам, белый коленкор, белый поплин, белый миткаль, 12 женских головных платков, чёрный дамский шарф, цветное кашне, белый батист, дамский цветной шарф — на сумму 134 руб. 75 коп. Были наделены товарами ещё 28 человек. Служащим уисполкома продали цветные платки и кашне31.
Вопрос самообеспечения был актуален для всех чекистов, так как позже Вологодская губернская чрезвычайная комиссия в приказе об обязанностях своих сотрудников наставляла: “а) не брать разного домашнего хлама и мелочных вещей, а также строго руководствоваться семейным положением при отобрании продуктов первой необходимости; б) главное — не брать в своё пользование вещей без разрешения, которые подлежат сдаче в ЧК; в) всё отобранное точно занести в протокол, без малейших упущений”32.
Работа в чрезвычайных комиссиях, связанная с насилием, неограниченной властью над людьми, попранием законов и моральных норм разлагающе действовала на чекистов. Сами руководящие сотрудники ВЧК признавали: “Кто сам не сотрудничал в этих комиссиях, тому трудно представить, почему так часто отдельные сотрудники, даже коммунисты, попадают на скользкий путь и падают… Сами чрезвычайные комиссии их осуждают нередко на смертную казнь”33.
И хотя заместитель председателя ВЧК Я.Х. Петере заявлял, “что весь этот шум и плач против энергичных и твёрдых мер чрезвычайных комиссий не заслуживает того внимания, которое им придают”34, ВЦИК почёл за лучшее 24 января 1919 года распустить уездные ЧК, мотивируя это более рациональной борьбой с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности36.
Небезынтересно замечание члена грязовецкой городской парторганизации Гуляева-Зайцева, сделанное им в 1919 году о бывшем председателе уездной ЧК, о том что Кунов — “человек душевно больной, утомлённый жизнью, которому необходим продолжительный физический и нравственный отдых”36.
Уездной власти жаль было расставаться с таким органом, как чрезвычайная комиссия. Она даже ходатайствовала перед губиспол-комом о воссоздании ЧК, “которая, просуществовав менее шести месяцев в Грязовецком уезде, не расстреляв ни одного гражданина, в то же время в корне уничтожила всякую спекуляцию и всевозможные нежелательные проявления со стороны кулацких элементов уезда, ибо факт то, что самое название “чрезвычайная комиссия”
действует на массы оздоровляюще, так как народная тёмная масса требует и жаждет твёрдой власти”37.
Факты говорят о другом: население страдало от преследований уездной ЧК, которая превращалась в орган жестокой диктатуры, подавлявшей не столько “конрреволюцию”, сколько простых обывателей.
Всероссийская и губернские ЧК просуществовали до 1922 года38. В связи с их реорганизацией в ГПУ Ф.Э. Дзержинский говорил:
“Теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам”39.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Из истории ВЧК. Сборник документов. — М., 1958. — С. 78—79, 103.
2. ВОАНПИ, ф. 2446, лл. 23—24.
3. ГАВО, ф. 485, on. 1. д. 6, л. 23.
4. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 232, л. 24.
5. Из истории ВЧК. — С. 212.
6. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 24, лл. 3—4, 11.
7. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 7.
8. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, лл. 10—11.
9. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, лл. 93—106.
10. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, лл. 59—60.
11. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 118.
12. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 117.
13. В дальнейшем имение Гилленшмидт было занято совхозом. (См. ГАВО, ф. 485, он. 1, д. 74, лл. 202—203).
14. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 120.
15. Золотник — 4,266 гр.
16. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 121.
17. Доля — 44,43 мг.
18. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 127.
19. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 173.
20. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 12.
21. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 18.
22. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 63.
23. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 64.
24. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 105.
25. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 26, л. 85.
26. Ленин В.И. Соч., т. 28. — С. 150—151.
27. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 200.
28. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 19.
29. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 199.
30. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 183.
31. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 25, л. 187.
32. Из истории ВЧК. — С. 283.
33. Там же. — С. 246.
34. Там же. — С. 202—203.
35. Там же. — С. 243.
36. ВОАНПИ, ф. 2446, д. 57, л. 20.
37. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 34, лл. 21 — 22.
38. Из истории ВЧК. — С. 471.
39. Там же. — С. 475.
ЗАКРЫТИЕ МОНАСТЫРЕЙ В ГРЯЗОВЕЦКОМ УЕЗДЕ
Декрет советской власти от 23 января 1918 года “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” положил начало массовому закрытию монастырей. В Грязовецком уезде этот процесс начался с того, что местная власть стала распоряжаться монастырским имуществом (по декрету оно стало государственным). Николо-Озерский женский монастырь был занят сельскохозяйственной коммуной1, в Корнильево-Комельском разместился детский дом “Республиканец”2, а в Павло-Обнорском обосновалась школа соцвоса3. Такое соседство, конечно, было противоестественным и вело к конфликтам.
Монастыри пытались приспособиться к новым условиям жизни. В Николо-Озерском монастыре монахини начали зарабатывать кружевоплетением. Намеревались создать трудовые артели и в других монастырях. Но решением президиума Грязовецкого уисполкома от 25—26 марта 1924 г. монастыри были закрыты4. Закрытию способствовала и моральная атмосфера внутри Павло-Обнорского монастыря, и то, что в среде духовенства возникла борьба различных течений, причем советская власть поддерживала обновленцев в противовес сторонникам патриарха Тихона5. Уездный уполномоченный Вологодского епархиального управления протоиерей Н. Соколов подсказывал Грязовецкому уисполкому, какие претензии можно предъявить “тихоновцам” по части исполнения декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”6.
Монастыри уже были закрыты, когда вдруг поступила телеграмма из Москвы от М.И. Калинина, приостанавливающая это решение в результате жалобы Павло-Обнорской религиозной общины7. Публикуемая часть докладной записки председателя Грязовецкого уисполкома П:Е. Едемского представляет собой обоснование действий местной власти. (Центр с этими доводами согласился)8. Документ знакомит нас с обстоятельствами закрытия монастырей в Грязовецком уезде и характеризует взаимоотношения церкви и государства в 20-е годы.
При публикации опущен 1 раздел докладной записки — об обязанностях монастырских общин верующих.
И.А. КОЖЕВНИКОВА (г. Вологда)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 48, л. 7.
2. Там же, л.16.
3. Там же, л.15.
4. Там же, л. 19.
5. Во главе обновленческого движения стояли молодые священнослужители, недовольные своим положением, стремившиеся к демократизации внутрицерковной жизни, полностью лояльные к советской власти.
6. ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 48, л. 48.
7. Там же, лл. 22—23.
8. Там же, л. 36.
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО УИСПОЛКОМА П.Е. ЕДЕМСКОГО ПРЕЗИДИУМУ ВЦИК О ЗАКРЫТИИ МОНАСТЫРЕЙ
27 апреля 1924 г. Срочно. Секретно.
В президиум Всероссийского центрального] исполнительного] комитета уполномоченного Вологодского губисполкома председателя Грязовецкого уисполкома Едемского П.Е.
Докладная записка.
… II. Краткая характеристика монастырей.
а) Павло-Обнорский. С хозяйственной стороны.
Монастырь сдан в 1918 году в исправности. Сейчас же мы имеем следующее: поддержки изношенного имущества, а также порченого и пришедшего в ветхость храмового инвентаря не производилось. Одна из церквей разрушена окончательно. Выбиты стёкла в рамах, выломан пол и использован как дрова монахами, разрушены печки и т. д. Здание пустует, и систематически хищение остатков продолжается. Ограда (забор из досок) разрушена, и доски использованы на дрова при монастыре для отопления церквей, причем часть обнаружена комиссией в одном из храмов как не использованные пока. В этом же храме сложены дрова до 4 саж[еней]. Ограда, окружающая кладбище, разрушена. Учета имущества нет. Все эти недочеты являются нарушением обязательств с их стороны вопреки неоднократному подтверждению1 со стороны УИК и от[дела] управления.
Изложенное признано самим советом общины, который признал, что дело было не наше, а монахов (см. акт комиссии)2.
С нравственной и моральной стороны.
Поведение монахов развратное… (см. дело ГПУ, препровожденное в Вологодский] губревтрибунал)3.
…Политическая сторона: благодаря наличию монастырей проведение кампании по реализации 2-го государственного] хлебн[ого] займа4 не увенчалось успехом5, вследствие проводимой агитации в массах, что работа эта идёт на укрепление большевиков.
Культпросветработа в районе точно также идёт медленно по указанным причинам.
б) Корнильево-Комельский монастырь.
Хозяйственная] сторона: положение аналогично с Павло-Обнорс-ким монастырем, точно так же и в остальных положениях (см. акт комиссии)6.
Монашествующие, совет и верующие это признали как явление бесспорное и с закрытием целиком согласились.
в) Николо-Озерский.
Этот монастырь имеет некоторую разницу с указанными выше. Здесь по существу не монастырь, а церковь, обслуживающая монахинь, оставшихся от когда-то закрытого монастыря. Церковь не могла обслуживать широкие массы, за исключением двух-трёх деревень прилегающих, так как остальные расположены ближе к другим церквям, и кроме того болотистая местность не говорит за обслуживание и посещаемость.
Церковь, оставшаяся от монастыря, частично использована под богослужение, а остальная часть под жильё монахинь. Монахини якобы занимаются исключительно трудом в своей кружевной артели, но на самом деле кроме этого незначительного труда основной работой было поборничество.
Деятельность монахинь за прошлый период характеризуется их стремлением, проявленным на деле, к выселению находящейся там Николо-Энгельской коммуны.
Последняя живёт в скверных условиях, ютясь где-то в хатах, в то время как монахини, это больное место на здоровом теле, занимают великолепный дом.
О выселении речь идёт в течение трёх лет, но до сих пор переписка курсирует по учреждениям.
Из краткого освещения вытекает, что послужило причиной к закрытию. Несомненно, что все проделки монахов небезызвестны советам общин, но, поскольку последние были собраны из числа кулацкого элемента, они проявляли свои действия параллельно монашествующим, что подтверждено актом комиссии, где значится, что у члена совета общины П[авло]-0бн[орского] монастыря при обыске найден
ряд церковных предметов в деревне на скотном дворе под досками7.
Уисполком не встал сразу на путь закрытия без предупредительных мер. Это предупреждение подтверждается в прилагаемом документе от уполномоченного] епархиальн[ого] управления] № 131 от 1923 г., где говорится, что управление имеет сведения о нарушениях договора и т. д., и объявило выговор настоятелю Павло-Обнорского монастыря Никону с предупреждением вплоть до закрытия монастыря и одновременно постановило выселить ряд иеромонахов из монастыря в трёхдневный срок за антисоветскую агитацию8. Последние до сих пор живут в монастыре. Предупреждения продолжались в течение двух лет.
III. Порядок закрытия монастырей.
При наличии материалов закрытие должно производиться только по постановлению президиумом губисполкомов (основ[ание]—инструкция] НКЮ9), причем решения его без различия по каким бы то ни было вопросам могут отменяться согласно Конституции пленумами ГИК10 и президиумом] ВЦИК.
В данном случае Грязовецкий УИК своим постановлением просил ГИК об утверждении, что и проведено 1 апреля 1924 г., прот[окол] 27,15. Только после постановления ГИК УИК поручил комиссии произвести закрытие.
IV. Что сделано.
После постановления ГИК уезд[ная] ликвид[ационная] комиссия приступила к работе. Сейчас мы имеем, что монастыри все закрыты. Павло-Обнорский —13 апр[еля], Корнильево-КомельСкий — 15 апреля с/г и Николо-Озерский — 17 апреля с/г. Монахи из Павло-0бнорск[ого] выехали 14 апреля, из Корнильевского — частью 24/IV — это старики, которые помещены в доме призреваемых, а остальные — 28/IV, Николо-Озерск[ие] обязаны выехать 5/IV.
На основании циркуляра ГАО11 часть имущества является уже использованной, т.е. переданной по церквям приходским и по школам соцвоса, а помещения — общему отделу УИК.
Таким образом, работа по закрытию уже закончена.
V. Как отнеслись верующие к закрытию монастырей.
Очень характерно отношение верующих Павло-Обнорского монастыря. Нужно признать, что до момента охарактеризования действий священнослужителей небольшая группа была за монастыри, а сейчас, когда картина открыта перед ними, верующие признали закрытие правильным с условием, что вместо монастыря будет создан культурный центр.
Кор[нильево]-Комельский монастырь — здесь верующие, совет и монахи сказали открыто, что давно пора, и никаких ходатайств.
Ник[оло]-0зерский монастырь. УИК ходатайство не видел; лишь потому некому ходатайствовать, так как все верующие приписаны к приходским церквям.
Теперь, почему пошли ходоки в Москву во ВЦИК, и кто такие ходоки. По Павло-0бнорск[ому] монастырю ходок Смирнов Вас[илий] Никон[ович]
— это прежде кулак, старый старшина, член совета, но не бывавший в церкви в течение 15 лет. Пошел в Москву лишь потому, что вслед за закрытием монастыря следственные органы повели следствие, и дело угрожает судом как совету, в частности Смирнову, так и монахам. Они полагали, что с открытием, через центр они останутся без наказания12.
Николо-Озерский — точно так же. Значит, ясны причины, т.е. не желание верующих, а шкура совета и монахов.
VI. Могут ли духовные потребности верующих быть удовлетворены.
Прилагаемая справка Грязовецкого ВИКа и карта Грязовецкого уезда говорит, что несомненно. Около П[авло]-Обнорского монастыря находятся церкви: 1) Николо-Пеньевская — в 3-х верстах, 2) Спасо-Нуромская — в 5 верст[ах] и 3) Рождество-Студенец[кая] — в 5 верст[ах].
Около Ник[оло]-0зерского: 1) Рожд[ество]-Степуринская — в 7 вер[стах], 2) Богословская — в 3 вер[стах], 3) Архангельская — в 7 верст[ах].
Кроме того, здесь на расстоянии трёх верст от монастыря ввиду болотистой местности нет никаких населённых пунктов.
Около Корнильево-Комельского: 1) Кустовская — 6 вёрст, 2) Рожд[ество]-Студенец[кая] — 3 верст[ы] и Грязовец— собор — в 4 верстах.
Нужно сказать, что все население приписано именно к этим приходским церквям, где и совершает свои обряды. А монастыри служили убежищем для проходимцев всякого рода.
VII. Что предложено организовать в помещении б[ывших] монастырей.
а) Павло-Обнорский монастырь: в одной церкви — народ[ный] дом (библиотека-читальня, сцена-театр), вторая церковь — класс, и в двух остальных — маслодельная артель. Помещение, где жили монахи — общежитие приезжающим рабочим и служащим на отдых во время лета;
б) Корнильево-Комельский: одна церковь — народный дом, вторая
— под-квартиры, а третья — разбирать ввиду разрушенности её. Общежитие монахов передать по договору губсоцстраху для использования под дом отдыха рабочим и служащим;
в) Николо-Озерский: помещение монахинь отдать коммуне, вследствие отсутствия у последней помещений для жилья, церковь — нижний этаж — для мастерских, и верхний — под народ[ный] дом;
VIII. Можно ли допустить открытие вновь, почему, и последствия каковы.
При наличии данных, кратко охарактеризованных здесь и подтверждаемых документами, открытие вообще нецелесообразно и недопустимо. Открыв монастыри, мы удовлетворим просьбы ходоков и монахов только. Но в будущем местные органы власти губернии и уезда, уже не
говоря о волостях, не извольте проводить не только антирелигиозную пропаганду, а вообще каких бы то ни было мероприятий.
Ибо все это будет головотяпство, по мнению масс, и это головотяпство, ясно, центр отменит.
Если мы хотим работу вести, нужно и центру стремиться поддержать здоровую мысль и инициативу мест, а не стремиться к их дискредитации в лице хотя бы отдельной кучки ходоков. Для этого нужны не односторонние суждения, а материал, соображения местных органов и т.д.
Места имеют авторитет в крестьянских массах (тружеников), его нужно закреплять. Начинание, здоровое, согласованное с революционной] законностью, нужно признать правильным.
Открытия не может быть.
Заключение.
Не зная, было ли разрешение вопроса об открытии монастырей и отмене постановления президиума] губисполкома президиумом] ВЦИК согласно конституции или личное распоряжение председателя ВЦИК т. Калинина, прошу вопрос поставить на рассмотрение вновь, заслушав доклад от председателя УИК, и разрешить его в сторону признания правильным постановления президиума] губисполкома, отмены телеграммы пред. ВЦИК т. Калинина.
Уполномоченный] Вологодского ГИК председатель Грязовецкого УК Едемский.
27/IV—24r.
(ГАВО, ф. 485, on. 1, д. 48. лл. 28—30.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Так в документе.
2. Акта комиссии в архивном деле не имеется.
3. Этого дела ГПУ (Государственного политического управления) в архивах не обнаружено.
4. 2-й государственный хлебный заем выпущен в 1923 году, имел натуральную форму.
5. Так в документе.
6. Акта комиссии в архивном деле не имеется.
7. То же.
8. Этот документ хранится в ГАВО, ф.485, оп.1, д.48, л.4.
9. Народный комиссариат юстиции.
10. Губисполком.
11. Губернский административный отдел.
12. Позднее В.Н. Смирнов был репрессирован по 58 ст. (политической). В настоящее время реабилитирован.
ПУБЛИКАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ
I
ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ
(историческая справка)
Введенский Корнильево-Комельский монастырь основан в 1497 году монахом Корнилием, происходившим из рода ростовских бояр Крюковых. Детство его прошло в Москве, в доме дяди, брата отца, Лукияна, дьяка великой княгини Марии Ивановны, жены Василия Темного. Около 1468 года Лукиян с племянником пришли в Кирилло-Белозерский монастырь. Здесь последний постригся, стал монахом Корнилием. Затем он несколько лет жил при дворе новгородского архиепископа Геннадия и в пустынях Новгородского и Тверского краев.
В 1497 году Корнилий обосновался в Комельских лесах. Здесь, близ дороги, ведущей из центра страны на Северную Двину, в Предуралье и Зауралье, была построена деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Грамотой от 1 февраля 1501 г. митрополита всея Руси Симона Корнилий был определен священником этой церкви. Так было положено начало монастыря.
В 1515 году была выстроена новая Введенская церковь, затем церковь во имя Антония Великого (Печерского). Корнилий создал и ввел свой монастырский устав, требовал его жесткого выполнения. Умер Корнилий 19 мая 1538 года, в возрасте 82-х лет. Вскоре после смерти его начали почитать в крае как святого, а в 1600 году на Освященном соборе он был официально причислен к лику общерусских святых.
Жесткие каноны, введенные Корнилием, продолжали бытовать, видимо, в монастыре и после смерти его основателя. Это, надо полагать, способствовало тому, что из Корнильева монастыря вышла целая плеяда основателей новых обителей: Кирилл Новоезерский, Иродион Илоезерский, Симон Сойгинский, Геннадий Любимский,
Филипп Иранский, Адриан Пошехонский, Даниил Шужгорский, Зосима Ворбозомский2.
Получая значительную поддержку великих князей, позднее царей, монастырь развернул активную деятельность и умножал свои духовные и материальные богатства. После пожара 1552 года в монастыре началось каменное строительство. Сотная на вотчину монастыря 1631 года отмечает в нем 2 каменные церкви.
Отписная книга монастыря 1657 года дает более четкие данные по архитектуре монастыря. В ней отмечается пятиглавая соборная церковь Введения с двумя приделами: Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца; “приделанная” к соборной двуглавая церковь с двумя службами: Федора Стратилата и Корнилия Чудотворца; самостоятельная теплая церковь Антония Великого с трапезою. Отмечается также каменная колокольня с придельной меньшей колокольней, под которой находилась “полатка книгохранительная”. На колокольнях были часы и 14 колоколов, в их числе — по благовестному в “108 пуд с четвертью” и в “82 пуда с четвертью”. Указано наличие каменных келий, кладовых и сторожки у ворот.
В 1701 г. выстроена надвратная церковь Николая Мирликийско-го. Позднее, в XVIII—XIX вв., церкви монастыря как внутри, так и снаружи неоднократно реставрировались, подновлялись, перестраивались, переименовывались3.
С начала существования монастырь становится и феодалом-вотчинником. Первые земельные приобретения были сделаны еще самим Корнилием: известны купчие и данные на его имя 1516, 1518, 1531 годов. По жалованной грамоте Василия III 1530 года монастырь получил значительные земли в Комельской и Обнорской волостях Вологодского уезда. Жалованная льготная грамота монастырю 1538 года отмечает в этом районе монастырских 13 деревень и 78 починков (в том числе и починок Грязивицкий) и в Ухтомской волости Белозерского уезда село Погорелово, 12 деревень и 8 починков. В 1552 г. Иван IV дал монастырю 4 соляных варницы нар. Кулой Двинского уезда, а в 1563 г. закрепил за ним дер. Комарову с мельницей на р. Обноре4.
В 1547 г. монастырю перешла Коптева пустынь, основанная на р. Великой в 1481 году, и вместе с ней 13 починков и другие угодья. В 1588 году — Персова (Перцова) пустынь, находившаяся также неподалеку от монастыря, на р. Лухте (основана в 1499 г. преподобными Авксентием и Онуфрием). Князья Ухтомские, потомки старых удельных Ростовско-белозерских князей, в 1539, 1544 и 1547 годах расширили владения монастыря в Белозерском уезде5.
В 1620-е годы монастырь имел в Ухтомской волости Пошехонского уезда (отделился от Белозерского в середине XVI в.) 2 села, 29 деревень, 2 починка, 32 пустоши; в Комельской волости Вологодского уезда — 1 погост, 2 села, 2 сельца, 55 деревень и 96 пустошей (в основном — это запустевшие деревни и починки), 244 двора крестьян, 128 дворов бобылей, 291 место дворовое (на пустошах), около 7000 га пашни8.
По Отписной книге монастыря 1657 г. за ним в Вологодском и Пошехонском уездах числилось крестьян и бобылей 704 двора.
Феодальное государство обеспечивало монастыри не только вотчинами, но и деньгами, различными льготами и привилегиями, юридическими правами относительно крестьян. В 1538 году, после разорения вотчины Корнильева монастыря в Вологодском уезде казанскими татарами, монастырь был освобожден на 5 лет от всех государственных повинностей. В 1629 году получил царскую грамоту на многие старые и новые льготы7. Грамота предоставляла монастырю и право сбора таможенных пошлин на двух ярмарках, Введенской и Антониевской, и недельных торжках в селе Грязивицы.*
В 1529 году Василий III выдал монастырю несудимую грамоту, по которой население вотчины освобождалось от суда княжеских наместников. Функции суда передавались монастырю, точнее его настоятелю-игумену. Эти права в дальнейшем неоднократно подтверждались царскими грамотами (1618, 1629, 1686 гг.)8. Власть монастыря над крестьянами укреплялась царскими жалованными описаниями (писцовыми и переписными книгами) и ревизиями (ревизскими сказками), государственным законодательством. Все это закрепляло крестьян за монастырями, делало их крепостными последних.
В 1764 году государство провело секуляризацию монастырских вотчин, монастыри лишились и земель, и крестьян. В это время в Корнильевом монастыре было монахов 50 и служителей (в основном— разного рода работников) 266 человек. Монастырю принадлежали в Вологодском, Пошехонском и Переяславском уездах 2822 души муж. пола крепостных крестьян9. Вслед за этим, с утверждением монастырских штатов, Введенский Корнильево-Комельский монас-
* Грязивицы в это время были уже довольно значительным селом: в нем были 2 деревянные церкви, 1 двор монастырский, 7 — церковнослужителей, 21 — крестьян, 18 — бобылей и 8 келий (изб монастыря) для нищих (см. Сотную… 1631 г.)
тырь стал монастырем III класса с игуменским настоятельством (с 1693 г. настоятелями были архимандриты) и просуществовал, выполняя свои духовные функции, до 1920-х годов. В настоящее время бывшие монастырские здания занимает психо-неврологичес-кий диспансер.
Отписные книги монастыря XVII—XVIII вв. дают довольно обстоятельный обзор монастырского архива. Многое изъяли из него время, события, люди, и все же значительные материалы по истории монастыря сохранились до наших дней. Остановлюсь лишь на наиболее важных комплексах источников.
В первую очередь отмечу, что во многих списках XVI—XIX вв. сохранились Устав, написанный Корнилием Комельским, и его житие10. В общих материалах государственных описаний и ревизий Вологодского уезда XVI—XVIII вв. имеются и описания монастыря”. Сохранились и некоторые материалы внутреннего монастырского учета — Отписные книги 1656, 1657, 1659 и 1661 годов, описи имущества и инвентаря монастыря за 1775 и многие годы XIX— начала XX вв12. Дошел до нас и основной комплекс великокняжеских и царских грамот монастырю13.
Значительные материалы по истории монастыря XVIII—начала XX вв. содержит фонд Корнильево-Комельского монастыря (ф. 520) Государственного архива Вологодской области. В фонде 358 ед. хранения, из них 18 относятся к XVIII веку (с 1726 года). Из имеющихся здесь материалов, кроме уже указанных описей имущества, отмечу копии царских манифестов, указы Вологодской консистории и архиерейской канцелярии (с 1726 г.), приходо-расходные книги монастыря (с 1769 г.), ведомости о состоянии монастыря и годовые отчеты настоятелей, послужные списки монахов.
Особую ценность имеют “Летопись Корнильево-Комельского монастыря” (данные с 1868 г.; № 164, 228), “Историческое и статистическое описание… монастыря” (№ 110, 111, 292), “Договоры на ремонт монастырских зданий” (1839-1856 гг.; № 72; в эти годы шла активная перестройка зданий), “Копии царских грамот” (1853 г.;
№ 114; здесь даны копии 60 актов за 1481—1703 гг.)
В целом сохранившиеся до наших дней материалы дают реальную возможность воссоздания истории монастыря. Часть их публикуется далее в настоящем сборнике.
QQQ
Ю.С. ВАСИЛЬЕВ
(г.Вологда)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. В очерке не делается ссылок на источники, публикуемые в данном сборнике.
2. Корнильево-Комельский Введенский монастырь Вологодской епархии Грязовецкого уезда. — Вологда, 1904. — С. 19; Верюж-ский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею церковью и местно чтимых.
— Вологда, 1880. — С. 405—443.
3. Историческое и статистическое описание Корнильево-Комельского монастыря, составленное в 1852 году. — Вологда, 1855.
— С. 82—99.
4. Историческое и статистическое описание. — С. 22: Амвросий. История российской иерархии. — М., 1812. — Ч. IV. — С. 712—716.
5. Историческое и статистическое описание… — С. 56—70.
6. Там же.
7. Амвросий. История российской иерархии. —С. 706—711, 721—753.
8. Там же. — С. 704—706.
9. Историческое и статистическое описание… — С. 76—79.
10. Устав см.: Амвросий. История российской иерархии. — С. 661—704; Историческое и статистическое описание… — С. 23—55.
11. РГАДА, ф. 1209, кн. 59 ( Дозорная книга 1615—1616 г.);
кн. 14727 и 14728 (Писцовая книга монастырских и церковных земель Городской половины Вологодского уезда 1628—1631 гг.);
Степановский И.Н. Вологодская старина: Историко-археологический сборник. — Вологда, 1890. — С. 486—499 (А.Е. Мерцаловым дан перечень писцовых и переписных книг Вогодского уезда XVII в.;
в настоящее время они находятся в РГАДА); Воскобойникова Н.П. Переписные книги Вологодского уезда из фонда Поместного приказа // Рефераты докладов и сообщений VI Всероссийского научно-практического совещания по изучению и изданию писцовых книг и других историко-географических источников (Ферапонтово, 27—29 мая 1993 г.). — СПб., 1993. — С. 15—22.
12. ГАВО, ф. 883, № 28, 29; ф. 674, № 1,2; ф. 520, № 11 (1775 г.);
№ 124 (Главная монастырская опись 1855—1856 гг.); № 220 (Главная монастырская опись 1887 г.), № 221 (Дополнительная монастырская опись 1887 г.) и другие.
13. Часть их опубликована: Амвросий. История российской иерархии. — С. 659—773; ВГВ. — 1839. — № 41; 1846. — № 33-38; ГАВО, ф.520, № 114.
II
АКТЫ ВВЕДЕНСКОГО КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ
В данном разделе публикуется ряд актов XV—XVII веков Корнильево-Комельского монастыря. Они дают сведения о начале монастыря, канонизации Корнилия Комельского, причисленного к лику общерусских святых в 1600 году. Характеризуют хозяйственную деятельность монастыря, его взаимоотношения с государственной властью, очерчивают монастырскую вотчину 1530-х годов. Также сообщают данные о починке, позднее — селе Грязивицы, будущем г. Грязовце. Жалованная льготная грамота 1538 года даёт некоторые подробности о последствиях набега татарских орд на Вологодский край 1538 года, подтверждая рассказ об этих событиях жития Корнилия Комельского и краткие известия некоторых летописей.
Акты № 2, 6, 10, 11 даются по публикации Амвросия (История российской иерархии. — М., 1812. — Ч. IV. — С. 659—661, 706—712, 769—773, 773—783). При этом воспроизводится как текст грамот, так и описания их, данные Амвросием.
Акты № 1, 3, 4, 5, 7, 8 извлечены из Копийной книги актов Корнильево-Комельского монастыря середины XIX в., хранящейся в фонде Корнилево-Комельского монастыря Государственного архива Вологодской области (ГАВО, ф. 520, № 114, лл. 13 об.—14; 6,6 об.;
4,4 об.; 6 об.—7; 14,14 об.; 17 об.—18 об.). Книга на 60 л., в 1/2 листа. Современная нумерация листов дана простым карандашом и соответствует по старой нумерации листам 51—70, 91—129. Следовательно, в книге недостает первых 50 листов и в середине — 20 листов. Видимо, первые листы занимало описание, а дальнейшие — ряд актов монастыря. Вероятно, копии готовились к изданию, но по каким-то причинам не были изданы.
Акт № 9 — послушная (“ввозная”) грамота 1586 г. — хранится в фонде Грамот коллегии экономии Российского государственного архива древних актов (РГАДА, ф. 281, № 2622). Столбец из двух сставов. Основной текст писан двумя почерками, после него — черновосковая печать плохой сохранности. На обороте л. 1, вверху:
Царь и великий князь всея Русии; по склею скрепа: Диак Яков Витофтов; л. 2, внизу: Справил подьячеи Третячко Харилов. Нал. 1 об. также подтверждение царя Бориса Годунова.
Ю.С. ВАСИЛЬЕВ (г. Вологда)
№ 1
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА III СТАРЦУ ПАИСИЮ НА ЧЕРНЫЙ ЛЕС В ОБНОРСКОЙ ВОЛОСТИ ВОЛОГОДСКОГО УЕЗДА, 7 МАРТА 1481 г., С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ 15 ФЕВРАЛЯ 1506 г.*
Се яз, князь великий Иван Васильевичь, пожаловал есьми в Вологод-цком уезде в Обнорской волости вверх реки Великие на устье реки Талицы пустынника старца Паисею, ево учеников или хто в той пустыньке учнут иные старцы жити, дал есми лесу чернаго от ево келеи к Обнорской волости на две версты, да по Великой речке вверх на три версты по обе стороны лесов и покосы, да вниз по Великой же речке на четыре версты, да к Волочку кЛежскому на четыре версты и не велел есми у нихтого лесу никому сечи и пахати и починов ставити князем и бояром и детем боярским и моим великого князя крестьяном. И хто у них тот лес учнет сечи и пахати сильно и починки ставити, и тому от меня, от великого князя, быти в опале.
Дана грамота на Москве лета 6989, марта в 7 д.
К подлинной грамоте приложена чернаго воску печать. У той же на обороте писано /тако/: Князь великий Иван.
Князь великий Василеи Ивановичь всеа Русии по сей грамоте пожаловал старца Паисею или хто по нем иныи старцы в той пустыни будут сее грамоты у них рушити не велел никому ничем.
Лета 7014 февр. 15 дня. Диак Данило Киприанов.
№2
СТАВЛЕННАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА СИМОНА КОРНИЛИЮ ФЕДОРОВУ КРЮКОВУ В ПОПЫ МОНАСТЫРСКОЙ ЦЕРКВИ ВВЕДЕНИЯ ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 1 ФЕВРАЛЯ 1501 г.
Божиею милистию, се яз Симон, митрополит всея Руси, поставил есмь диака инока Корнилия Феодорова сына Крюкова в четцы и в подьяконы и в диаконы и свершил есмь его в попы в свою митрополью к церкви Пречистыя Богородица Введенью в пустыньку, на Комельской
* В 1546—1547 году пустынь, основанная Паисием и именуемая уже Коптевой, со всеми угодьями перешла к Введенскому Корнильеву монастырю (см. далее № 7).
лес, на реку на Нурму, в Костромскую десятину, и да литургасает в святей Божий церкви. И аще кто к нему приходит от детей духовных, и да разсужает их по правилом святых апостол и святых отец, имея и волю вязати и решати по благословению нашего смиренья. И да не преходит от церкви к церкви без нашего благословения, или не явясь нашему наместнику или десятиннику. Аще ли прейдет не явясь, и да не литурги-сает по сей нашей грамоте. И сего ради дана бысть ему грамота сия на
утверьжение его на Москве лета сем тысящь девятаго (1501), месяца февраля в первый день.
Под сею грамотою подписано тако: А по господинову по митрополичу слову подписал диак Яков Кожухов.
А на обороте подписано преемником митрополита Симона митрополитом Варлаамом собственноручно скорописью одно имя: Варлам.
К грамоте привешена на черном шелковом шнурке черная восковая печать величиною в копейку, на коей с одной стороны изображена в креслах Божия Матерь с предвечным Младенцем на левом колене; а на обороте изображение подписи строками: Божиею милостию смиренный Симон, митрополит всея Руси. •
Грамота писана скорописью на столбцовой бумаге, длиною в три или
около четырех вершков. Главные знаки препинания точки, но есть и запятые.
№3
КУПЧАЯ КОРНИЛИЯ КРЮКОВА НА ПОЖНЮ АНТИПИНСКИЙ НАВОЛОК, КУПЛЕННУЮ У ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВА СТОГИНА, 13 ИЮЛЯ 1516 г.
Се яз, Корнилии чернец Крюков сын, купил есми у Федора Алексеева сына Стогина пожню Антипинскои наволок в Окольной Сухоне Пречистой в дом. А в межах с верхнево конца с Вознесенскою пожнею да с Федоровой пожнею Харитонова з берегу прямо к лесу, а с нижняго конца в межах с Никифоровою пожнею Несветаева. А отвод той пожни по старым межам, куды топор и коса ходила исстарины. А дал есми ему на ту пожню шестнадцать рублев. А на то послуси Тимофеи Иванов сын Савельева да Борис Семенов сын Переславцев. А купчую писал Ульянко Козмин сын Стефанова лета 7024, месяца июля в 13 день.
А у подлинны купчий написано: К сей купчей яз, Борис, послух руку приложил. К сей купчей Тимофеи руку приложил.
№4
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ III ИГУМЕНУ ВВЕДЕНСКОГО КОРНИЛЬЕВА МОНАСТЫРЯ КАССИАНУ НА ЛЕС В ВОЛОГОДСКОМ УЕЗДЕ, БЛИЗ МОНАСТЫРЯ, 16 НОЯБРЯ 1530 г., С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ 1 ФЕВРАЛЯ 1534 г.
От великаго князя Василия Ивановича всея Русии в Вологоцком уезде князем и детем боярским, и соцким, и десяцким, и всем кресть-яном моим, великого князя, и митрополичим, и княжим, и боярским, и монастырским, и всем без омены, чей кто ни буди, которые князи и дети боярский, и соцкии, и десяцкие, и крестьяне пришли близко около Корнильева монастыря. Пожаловал есми Корнильева монастрыря игумена Кассиана з братьею, дал есми им кельи и пашенной земле лесу своего и княжего, и боярского, или чей лес ни буди, опрочь пашенные земли и починков и опричь лесу Павлова монастыря, и велел есми им того лесу кельи монастырской земле к пашенной отмерити приказщику городовому вологоцкому Иеву Григорьеву. И по которое место того лесу к тому монастырю приказщик городовой Иев отведет, и яз ему велел по тому месту и межу учинить. И вы б через ту межю того лесу, который лес приказщик Иев отведет х Корнильеву монастырю к той монастырской земле, не секли. А кто учнет того лесу сечь, и тем детем боярским быти от меня в опале и в продаже, а крестьяном быти от меня в казни.
Писана лета 7039, ноября 16 дня.
У подлинной чернаго воску печать приложена. У той же подлинной на обороте пишет /тако/: Князь великий всеа Русии. При том же: Князь велики Иван Васильевич всеа Русии по сей грамоте пожаловал Пречистые Корнильева монастыря старца Корнилия з братьею или по нем игумен будет со всем с тем, как в сей грамоте написано. Рушити сее грамоты не велел никому ни чем.
Лета семь тысячь четыредесят втораго февраля 1 дня. А подписал дьяк Федор Мишурин.
№5
ДАННАЯ ГРИДИ ПОЛИКАРПОВА НЕГОДЯЕВА ИГУМЕНУ ВВЕДЕНСКОГО КОРНИЛИЕВА МОНАСТЫРЯ КОРНИЛИЮ НА ПОЛОВИНУ ПОЖНИ ОМЕЛЬЯНОВСКОЙ, 1530-1531 г.
Се яз, Гридя Поликарпов сын Негодяев, дал есми Введению Пречистой Богородицы в дом в Корнилиев монастырь старцу Корнилию з братиею отца своего благословение половина пожни Омельяновские, а другая половина Федора Курилова Рыбникова, на реке на Леже промеж
Карчиным езом да Петров, да на другой стороне реки Лежи поженка маленькая противо Омельяновские пожни. А отвод тем пожням по старым межам и по купчей грамоте отца моего. А на то послуси Василеи Семенов сын Переславцев да Неклюд Ильин сын. Аданую писал Иванько Данилов сын лета 7039 году.
А позади данои пишет: К сей данои Гридя, руку свою приложил. К сей данои Василеи послух руку приложил.
№6
ЖАЛОВАННАЯ ЛЬГОТНАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ИГУМЕНУ КОРНИЛЬЕВА МОНАСТЫРЯ ЛАВРЕНТИЮ, ОСВОБОЖДАЮЩАЯ МОНАСТЫРСКИХ КРЕСТЬЯН НА 5 ЛЕТ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ И ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 17 ИЮНЯ 1538 г.
Се яз, князь великий Иван Васильевичь всеа Русии, пожаловал есми Корнильевой пустыни игумена Лавреньтея с братиею, что ми били челом, а сказывают, что их села и деревни и починки монастырские в Вологодском уезде, в Обнорской волости деревня ЕрзОво, деревня Добродеево, деревня Комарица, деревня Шишкине, деревня Шепелева, деревня Плясово, деревня Жучиха, деревня Олябиха, деревня Михале-во, деревня Сасоновица, Заямье, деревня Орефино, деревня Еремине”. Да в Комельской волости починки: починок Крячков, починок Желомеин, починок Сеница, починок Дедов, починок Курбин, починок Болонин, починок Хомутников, починок Мечник, починок Камешник, починок Климков, починок Бурцев, починок Ломихин, починок Лапшин, починок Черницын, починок Ситников, починок Малыгин, починок Малышкин, починок Декосов, починок Дураков, починок Иншин, починок Осейков, починок Мокрынин, починок Макаров, починок Офимьин, починок Куз-мин, починок Лыткин, починок Варгунов, починок Багаргин, починок Вакулин, починок Максимцов, починок Ростилов, починок Любилов, починок Мартьяников, починок Студенецкой, починок Крохин, починок Черепанов, починок Мальцов, починок Сидорцов, починок Плоской, починок Рубцов, починок Туганов, починок Козлов, починок Ивин, починок Рыбников, починок Слудной, починок Кокшаров, починок Скрелев, починок Белозерка, починок Короваев, починок Истомин, починок Ошей-кин, починок Калинин, починок Косиков, починок на Ячнище, починок Запрудной, починок Скоморохов, починок Крестовской, починок Стре-лицын, починок Пестов, починок Калиньев, починок Страшев, починок Кузнецов, починок Дешевков, починок Косицын, починок Моклоков, починок Брагин, починок Хвостов, починок Козлов, починок Ермаков, починок Хлызнев, починок Рослеков, починок Олферов, починок Грязи-витцкой, починок Шишкин, починок Росляков, починок Баташев, починок
Щеканов, починок Ефимов и те де их деревни и починки сее зимы казанские татарове жгли и воевали, а крестьян высекли. А иных деи крестьян с животы и статки в полон поймали. А которые де крестьяне поутекали, и у тех де крестьян животы поймали, а иных беж пограбила.
А которые деи в Белозерском уезде монастырские села и деревни на Ухтоме: сельцо Погорельское да деревня Воробьеве, деревня Федрино, деревня Варгуново, деревня Парфеньево, деревня Берестеник, деревня Ивановское, деревня Терехово, деревня Ескино, деревня Иванцово, деревня Векоросово, деревня Прохирева, деревня Варуново, — да починки: починок Денисов, починок Левин, починок Ухов, починок Коку-ев, починок Сенкин, починок Омелин, починок Фуфаев, починок Шипов, и в том деи их селе и в деревнях и в починкех у их крестьян животы и статни беж пограбила, и в те поры, как приходили казанские люди на вологодския места. А которым людем имати на тех их монастырских крестьянех долги по кабалам и без кабал и по духовным грамотам, и те де их должники долгов своих на их правят. А их де крестьяном долгов своих должником платити не чим, потому что животы их и статки козанцы пограбили, а у иных животы и статки беж пограбила. И ныне деи из того их села и из деревень и из починков крестьяне бежат розно. И мне бы Корнильевы пустыни игумена Лаврентия с братиею пожаловати дати их крестьяном льготы.
И ож будет так, как Корнильевы пустыни игумен Лаврентеи сказывал. И яз, князь великий, Корнильевой пустыни игумена Лаврентия с братиею пожаловал, кто у них в том монастырском селе и в деревнях и в починкех в Вологодском и в Белозерском уезде учнет жити крестьян, и тем их монастырским крестьяном не надобе моя, великаго князя, дань, ни ямские денги, ни посошная служба, ни городовое дело, ни наместничь, ни тиун корм, ни праведчиков, ни доводчиков побор, ни иные никоторые пошлины на пять лет.
Также есми Корнильевы пустыни игумена Лаврентея с братиею пожаловал, которым будет людем на тех их на монастырских крестьянех имати долги по кобалам и без кобал и по духовным грамотам, и яз, князь великий, велел их монастырским крестьяном платити в ту 5 лет своим должником в истую уплату без росту. А наши наместницы и волостели вологодские и белозерские и их ткуни на их на монастырских крестьян в долзех приставов своих не дают и долгов на их крестьянех правити не велят до тех их урочных лет. А наши ндельщики московские и данные приставы, и владычны десятильники по тех их по монастырских крестьян в долзех по духовным и по каболам и безкобально не ездят и на поруки их не дают, и сроков на них не наметывают, и долгов на их крестьянех не правят до тех их урочных лет. А как отойдут те их урочныя лета, и тем их монастырским крестьяном платити моя великаго князя дань и все пошлины по старине.
Дана грамота лета 7046 (1538) июня в 17.
На обороте сей грамоты подписано га/со: Князь великий Иван Ва-сильевичь всея Русии.
Внизу вислая на красном шелковом шнурке печать красного воску, величиною в грошевик, на коей с одной стороны вытиснут герб Московский св. Георгий на коне, и около его по краям подпись: Иван Божиею милостию господарь всея Русии. А на другой стороне двуглавный орел, с подписью по краям: Великий князь Владимирский, Московский, Нов-градский и иных.
№7
ВКЛАДНАЯ (“ДАННАЯ”) СТАРЦА АЛИМПИЯ В ВВЕДЕНСКИЙ КОРНИЛЬЕВ МОНАСТЫРЬ НА КОПТЕВУ ПУСТЫНЬ С ЕЕ ВЛАДЕНИЯМИ, 1546-1547 г.
Се яз, старец Алимпеи, постриженик Введения Пречистые Корниль-ева монастыря, что есмя зачели пустыньку со старцем Гурим с Коптем да со старцом Ионою, да со старцом Мисаилом на Великой реке на устье речки Талицы в Обнорской волости между волоком Лисским и Обнорою поставили есмя церковь Сретенье Господа нашего Иисуса Христа да теплую церковь с трапезою Николы чудотворца, да поставили пять келеи, да роспахали есмя четыре починка, деревня Симанцово, да Зыкляево, да Карпове, да Звереве, да Лупино, да Еголино, да Козине, да Малки, да Чащи, да Надиево, да Заречное Медведниково, да Зыкляев в стороне починок, да Запрудное пожня монастырская. И те моя братья старец Гуреи Коптя, да старец Иона, да старец Мисаило приставились и яз старец Алимпеи по своей братьеве душе помянути и за свои вклад отдал есми зачатие свое Коптеву пустыню с починки и заимищи, да два улья, да корову в свое пострижение в Корнилиев монастырь игумену Лаврентию з братиею, да грамоту есми свою на ту пустыньку жалованную царя и государя великого князя игумену ж отдал, да грамоту митрополичью, да грамоту писцовую льготную. И тою пустынькою игумену Лаврентию с братьею по государево грамоте, по митрополичье и по писцовой и починки и заимищи и всеми угодьи тое пустыньки владети всем и беречи и строити. А на то послуси Бурец Павлов сын да Иван Медвидь Петров сын, да Меншин Васильев сын. Запись писал даную Федка Фомин сын Алимпиев племянник лета 7055-го.
У подлинной на обороте руки приложены /тако/: К сей данои отец мои душевный священно пропоп (!) в мое место, старца Алимпея, руку приложил. Послух Меншин руку приложил.
№8
УКАЗНАЯ ГРАМОТА ИВАНА IV ВЫБОРНЫМ СУДЬЯМ ОБНОРСКОЙ ВОЛОСТИ ВОЛОГОДСКОГО УЕЗДА ФЕДКЕ МИХАЛЕВУ И ДРУГИМ О ВЗЯТИИ У ВВЕДЕНСКОГО КОРНИЛЬЕВА МОНАСТЫРЯ С ДЕРЕВНИ КОМАРОВОЙ И МЕЛЬНИЦЫ ОБРОКА И ДОСТАВКЕ ЕГО В МОСКВУ, 15 АВГУСТА 1563 г.
От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии на Вологду в Обнорскую волость выдорным судьям Федку Михалеву да Неклюдку Мартьянову да Сергеику Прядеину да Пшенице, да Фатеику Петрову или по вас иные судьи в Обнорской волости будут, и старостам, и сотцким, и десятцким, и всем крестьяном Обнорские волости. Бил нам челом из Вологодскаго уезда Веденья Пречистые Корнильева монастыря строитель Исакз братьею, чтоде и писец наш вологодцкои ИванДмитреев сын Курчев в Обнорской волости дал им на оброк черную деревню пустошь Комарове и с мельницею, чтобы та пустошь и мельница вперед пуста не были, да и выпись им Иван Курчев с книги своего письма дал, почему им нашего оброку в нашу казну давати. Да положил перед нами выпись с писцовых книг и в выписи пишет: лета 7070 генваря в21 день половины вологодцкаго писма ис книг писца Ивана Дмитривича Курчева да подьячево Ширяя Васильева Александрова в Вологодцком уезде в Обнорской волости деревня пуста Комарова на реке на Обноре, а под нею мельница, а пахали ее и мельницою владели Корнильева монастыря игумен Исак з Братиею и оброк царя и великого князя в волость с черными людьми платили. А в волости сказали, что игумен Исак з братьею ино б и вперед бы та деревня пуста не была и оброк бы царя и великого князя шол, а нынча Корнильева ж монастыря игумен Исак з братьею ту деревню пустую Комарову и мельницу под тою деревнею взяли на оброк, а оброку им царя великого князя в казну давати з году на год по тридцати алтын да пошлин с того оброку десят денег за наместничи доходы и за тиунские пошлины. А дати им тот оброк царя великого князя казну впервые на Стретение Христово лета 7071. А к выписи писец Иван Дмитриевичь Курчев печать свою приложил, а подьячеи Ширяи Васильев руку приложил. И строителю б Исаку з братьею с тем оброком к нашей казне к Москве не посылати и платити бы с тое пустые деревни и с мельницы за наместничи доходы и за тиунские пошлины тот оброк и с пошлинами в Обнорской волости вам выборным судьям Фетку Михалеву с товарищи или по вас иные судьи в Обнорской волости будут.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б у игумена у Исака з братьею з деревни с Комарова да с мельницы тот оброк и с пошлинами за наместничи доходы и за тиуни пошлины в волости имали на срок на Стретеньев день зимней, да в том оброке давали бы есте игумену Исаку
з братиею отписи волостного земскаго диака руку за приписью волостных людей, которые в волости грамоте умеют, чтобы манастырским и слугам и крестьяном с тем оброком к Москве волокиты не было, да те денги привезли бы есте к нам на Москву на тот же срок, на Стретеньев день с волостным оброком за волостелины доходы.
А прочет ею грамоту, отдали бы есте назад игумену Исаку з братиею, и они се держат вперед, почему им наш оброк за наместничи доходы и за туины пошлины в Обнорской волости платити. Писано на Москве лета 7071, августа в 15 день. У сей грамоты восковая черная печать величиною в копейку. На обороте подписано: Царь и великий князь всеа Русии. Внизу: Иван Клобуков.
№9
ПОСЛУШНАЯ (“ ВВОЗНАЯ ”) ГРАМОТА ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ИГУМЕНУ КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ АНДРИАНУ НА КРЕСТЬЯН ПУСТОШЕЙ ЗВЕРОВО И ДРУГИХ И ПОЧИНКА ЗЫКЛЯЕВА, 28 ФЕВРАЛЯ 1586 г., С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ 7 ФЕВРАЛЯ 1599 г.
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Вологоцкои уезд в Обнорскую волость в пустошь Зверово, в пустошь Козине, в пустошь Захарове, Медведниково то ж, в починок Зыкляев, в пустошь Еголино, в пустошь Медведниково, в пустошь Дудкино, в пустошь Тюрмы, в пустошь Чащовку, в пустошь Семачово, в пустошь Облупино всем крестьяном, которые в тех пустошах и в починке живут. Били нам челом Вологоцкого уезда Веденья Пречистые Корнильева монастыря игумен Ондреян з братьею, а сказали: по нашей деи грамоте в прошлом 93-м году розмежевал деи их монастырскую землю писец нашь князь Офонасеи Вяземскои да подьячеи Гриша Василье, а ввозные деи грамоты на ту их вотчину не дано.
И нам бы их пожаловати, велети им на ту их вотчину по книгам дати ввозная грамота. А в выписи с книг межеванья князя Офонасья Вяземского да подьячего Гришы Васильева лета 7093-го написано: по нашей грамоте з Большого Дворца за приписью диака нашего Петра Тиунова отмежевано х Коптевской пустыне по старым межам и по старожильцо-выхскаске кЛискому Волочку от Коптевы пустыни откелеи натри версты от деревни Симачевы прямо к пожням к прудом к новой меже, да от пожен от прудов от новой меже от дву осин, по Великой реке вверх по правой стороне за пустошь Медведниково к сосне, а от Медведниковы пустоши к Дудину, да от Коптевы пустыни на две версты через дорогу лесом к сосне к Великой реке к починку к Зыкляеву за пустошь за Тюрмы, да по Великой реке на три версты вверх по обе стороны к новой меже
Спаского монастыря и новоявленного чюдотворца Сергея, от новой меже до Коптевы пустыни.
И вы б все крестьяне, которые на тех пустошах вперед учнут жити, игумена Ондреяна з братьею слушали, пашню на них пахали и доход им платили до нашего указу и до тех мест, как те пустоши писцы наши или большие мерщики опишют и измеряют и учинят за ними пашни по нашему указу.
Писана на Москве лета 7094-го февраля в 28 день.
На обороте л. 1 подтверждение. Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии самодержец и сын наш царевич князь Федор Борисович всеа Русии, по сей и по прежней грамоте блаженные памяти великого князя Василья Ивановича всеа Русии Введенья Пречистые Богородицы Корнильева монастыря игумена Иосифа з братьею, или по нем в том монастыре иныи игумен будет, пожаловали: сее и прежние грамоты, что у них грамота о Гурьеве пустыни за красною печатью блаженные памяти великого князя Василья Ивановича всеа Русии подписана блаженные памяти на государево царево и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии имя и на государево царево и великого князя Федора Ивановича всеа Русии имя, рудити не велели никому ничем, а велели ходити по тому, как у них в тех грамотах. Писано лета 7107-го февраля в 7 д[ень].
А подписал государев царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии диак Василеи Нелюбов сын Суков.
№ 10
ГРАМОТА ПАТРИАРХА ИОВА В КОРНИЛЬЕВ МОНАСТЫРЬ О ПРИЧИСЛЕНИИ КОРНИЛИЯ К ЛИКУ СВЯТЫХ, 21 ФЕВРАЛЯ 1600 г.
Благословение великого господина Иова патриарха Московского и всеа Русии в Вологодской уезд Пречистыя Богородица честнаго и славнаго ея Введения Корнилиева монастыря духовному настоятелю игумену Иосифу с братьею! Извещал еси нам, что в Вологодцком уезде, в Комельской волости, на реке на Нурме Корнильев монастырь, и в нем де храм Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Введения да предел Усекновение честныя главы святаго славнаго пророка и предоте-чи крестителя Господня Ивана да святаго великого чудотворца Николы, да предел святаго великого Христова мученика Федора Стратилата, идеже великого преподобнаго отца Корнилия чудотворца мощи лежат;
да в том же де их монастыре в пределе храм во имя Корнилия чудотворца. А ещо деи тот предел не священ и от преподобнаго
Корнилия чудотворца проща* и исцеление бывает во многих годех слепым и хромым, и многими недуги одержимым исцеление бывает. И стихеры и канун и житие преподобнаго чудотворца Корнилия Комель-ского и чудеса перед нами на соборе положил. И яз, Иев патриарх Московский и всеа Русии, стихеры и канун и житие преподобнаго чудотворца Корнилия Комельского слушали соборне с митрополиты и со архиепископы и епископы и с архиманриты и игумены и с соборными старцы, и вологодского архиепископа Иону распрашивали соборне в свидетельстве про чудеса преподобнаго Корнилия Комельского чудотворца. И Иона архиепископ нам на соборе сказывал, что от преподобнаго Корнилия чудотворца от раки бывают многие неизреченные чудеса, и ему про то известно, что чудеса его писаны неложно, и празнуют преподобному Корнилию чудотворцу в монастыре и на Вологде в соборе и в Вологоцком уезде.
И генваря в 25 день во святей велицей соборней апостольстей церкви Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения в царствующем граде Москве великого государя благочестиваго царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии с митрополиты и со архиепископы и епископы соборне о чудотворце Корнилии Комельском докладывали и про стихеры и про канун и про житие чудотворца Корнилия извещали, что слушали соборне и стихеры и канун и жития чудотворца Корнилия Комельского писано по образу и по подобию, якож и прочим святым.
И государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии самодержец со мною, богомольцом своим Иовом патриархом Московским и всеа Русии, с митрополиты и со архиепископы и епископы соборне приговорил и указал: а велел чудотворцу Корнилию Комельско-му праздновати вечерню и всенощное пение и литургию божию служити в соборней апостольстей церкви Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения царствующаго града Москвы на память святаго мученика Патрекея епископа пруского майя в 19-й день, и в митрополиях, и во архиепископьях, и в епископьях у соборных церквей, и во всей великой Русии, как и протчим преподобным. А в Корнилиеве монастыре и на Вологде в соборной церкви Софеи премудрости Божий, и на посаде и в уезде во святых божиих церквах, и по окрестным градом, и по уездом Вологодцкие архиепископьи чудотворцу Корнилию по тому ж велель празновати майя в 19 день.
И как к вам ся наша грамота придет, и ты б, игумен Иосиф, с братьею у себя в монастыре по вся годы празновали Корнилию чудотворцу / Комельскому майя в 19 день, на память святаго мученика Патрекея, епископа Прускаго, на его чудотворцову Корнильеву память, и церковь во имя преподобнаго Корнилия освящали и молили Господа Бога и
*прощение
Пречистую Богородицу и великих чудотворцев Петра и Алексия и Иону и преподобнаго Корнилия чудотворца и всех святых о благосостоянии святых божиих церквей и о устроении земском, о мире и о тишине и о многолетном здравии и спасении, о благоверной царице и великой княгине иноке Александре Федоровне всеа Русии и о благоверном царе и великом князе Борисе Федоровиче всеа Русии самодержце, и о благоверной царице и великой княгине Марье и о их благородных чадех, о благоверном царевиче Федоре Борисовиче, и о благоверной царевне Ксении, и о христолюбивом воинстве, и о всем православном христианстве. А к Ионе, архиепископу вологодскому и великопермскому, о том писали ж есьмя, чтоб он велел на Вологде соборной церкви у Софеи премудрости Божий и на посаде по всем храмом, и в Вологодцком уезде, и во окрестных градех Вологодцкие архиепископьи по тому ж Корнилию чудотворцу Комельскому праздновати майя в 19 день. А милость Божия и Пречистыя Богородицы и великих чудотворцев Петра и Алексия и Ионы, и преподобнаго Корнилия чудотворца милостива да есть и будет с твоим преподобством всегда во веки. Аминь.
Писан на Москве лета 7108 (1600) февраля в 21 день.
№11
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ИГУМЕНУ КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ ЕФРЕМУ НА ПРАВО СБОРА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ОТ ТОРГОВЛИ ЛОШАДЯМИ НА ВВЕДЕНСКОЙ И АНТОНИЕВСКОЙ ЯРМАРКАХ И ТОРГАХ В СЕЛЕ ГРЯЗЛЕВИЦЫ*, 20 ФЕВРАЛЯ 1677 г.
Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожаловали есми богомольцов наших Вологоцкого уезду Корнильева монастыря игумена Ефрема с братьею, и хто по них в том монастыре игумен и братия будут, по тому в прошлых в 175 (1667), и во 178 (1670) годех били челом отцу нашему государеву, блаженныя памяти великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, Вологоцкого уезду Корнильева монастыря игумен Кирил да келарь старец Гурей Мижуев с братьею: на праздник де Введения Пречистыя Богородицы и чудотворца Антония Великого бывает у них в монастыре торжек в году по одному дни, да в их же монастырской вотчине в селе Грязлевицах торгуют временем по понедельником, а съезжаютца де туточные окольные их монастырские крестьяна и сторонние всяких чинов люди, и на тех де торжках лошади
*Прим. Амвросия: Граммата сия с разрисованною большою первою буквою “Б”. А над самою грамматою нарисован двуглавый орел. Письмо скорописное округлое.
покупают и продают и меняют, а конскую записную пошлину с тех лошадей збирали блаженныя памяти на отца нашего государева великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и чтоб отец наш государев их пожаловал велел в монастыре и в селе Грязлевицах конские пошлинные деньги збирать в монастырь Пречистые Богородицы и чудотворца Корнилия на свечи и на ладон и на всякую церковную утварь, а конюхом и выборным целовальником въезжать не велеть, и о том на Вологду к воеводе дать грамоту.
И в прошлых 175 и во 178 годех, по указу отца нашего государева, блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, велено Вологоцкого уезду на праздник Введения Пречистые Богородицы и чудотворца Антония Великого, и в вотчине Корнильева монастыря в селе Грязлевицах конские пошлинные деньги збирать в монастырь на свечи и на ладон и на всякую церковную утварь, а стремянным и задворным и стряпчим конюхом и выборным целовальником для сбору конских пошлинных денег в монастырь и в село Грязлевицы въезжать и пошлин збирать не велено, для того что в прошлых годех до 175 году в Конюшенном приказе в приходных и сборных записных книгах, збору стремянных и задворных и стряпчих, конюхов и выборных целовальников Введенские ярмонки и Торжку, как торгуют на праздник чудотворца Антония Великого и села Грязлевиц не написано.
И в нынешнем во 185 (1677) году, февраля в 9-й день били челом нам великому государю царю и великому князю феодору Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, богомольцы наши с Вологды Корнильева монастыря игумен Ефрем с братьею, чтоб мы, великий государь, пожаловали их богомольцов наших велели на праздник Введения Пречистые Богородицы и чудотворца Антония Великого и в вотчине их монастырской в селе Грязлевицах конские пошлинные денги збирать в монастырь Введения Пречистые Богородицы и чудотворца Антония на свечи, на ладон и на всякую церковную утварь против прежнего указу отца нашего государева блаженные памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и грамот; и о том дать с прежних отпусков нашу великого государя жаловальную грамоту.
И февраля в 8 день мы, великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указали в Вологоцком уезде в монастыре Введения Пречистые Богородицы и чудотворца Корнилия и в селе Грязлевицах с купленных и с продажных и с меновных лошадей конские пошлинные деньги збирать в монастырь Введения Пречистые Богородицы и чудотворца Корнилия на свече и на ладон и на всякую церковную утварь. А стремянным и задворным и стряпчим, конюхом и выборным целовальником, и всяким
сборщиком для сбору наших великого государя конских пошлинных денег в монастырь и в село Грязлевицы мы, великий государь, въезжать и пошлин збирать не указали.
Писан на Москве лета 7175 (1677) февраля в 20 день. На обороте сей грамоты подписано тако: Царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец.
Внизу сей грамматы на фигурном куске золотистой персидской материи привешена красным шелковым шнурком красная восковая, листовым золотом обзолоченная, величиною больше пятйкопеешника печать с изображением на одной стороне св. Георгия на коне, и вкруг его подпись: Божиею милостию великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всея Великия и Малыя; а на другой стороне вкруг двуглавнаго орла: и Белыя Росии самодержец и многих господарств
государь и обладатель.
На обороте сей грамматы следующая подтвердительная надпись:
Божиею милостию мы, великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, милости ради Божий и Пресвятыя ево Богоматере Пречистые Богородицы и великого чудотворца Корнилия Комельскаго указали сию брата своего государева блаженныя памяти селикого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца жалованную грамоту подписать, чтоб впредь о том, как в ней писано, чудотворному дому было нерушимо и неподвижно.
Диак Михаило Ерофеев подписал лета 7191 (1683) майя в 14 день.
QQQ
III
СОТНАЯ С ВОЛОГОДСКОЙ ПИСЦОВОЙ КНИГИ 1628 — 1630 гг. ПИСЦА С.Г. КОРОБЬИНА И ПОДЬЯЧЕГО Ф. СТОГОВА НА ВОТЧИНУ ВВЕДЕНСКОГО КОРНИЛЬЕВА МОНАСТЫРЯ 30 ДЕКАБРЯ 1631 г.
В 1627—1631-м годах группа писцов и подьячих провела полное описание г. Вологды и Вологодского уезда (о материалах его см: Воскобойникова Н.П. Писцовые книги Вологодского уезда из фондов РГАДА // Тезисы докладов и сообщений III Всероссийского научно-практического совещания по вопросам изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников (Вологда, 21—23 июня 1990 г.). — (Вологда, 1990.
— С. 28—31). 30 декабря 1631 г. описывавшие городскую половину уезда писец Семен Гаврилович Коробьин и подьячий Федор Стогов выдали Сотную — выпись из писцовых книг игумену Корнильево-Комельского монастыря Маркелу на монастырскую вотчину Вологодского уезда село Грязивицы с селами, деревнями, пустошами и пустынями Коптевой и Перцовой.
В Сотной дается перечень церквей, служб и селений монастыря, в селениях отмечаются дворы и-главы семей, проживавших в этих дворах, земельные угодья. В вотчине зафиксировано много пустошей и мест дворовых. Причины запустения не отмечены. Видимо, это следствия хозяйственного кризиса 1570—1580 годов, охватившего не только Запад и Центр России, но и ряд регионов Севера, в частности Белозерский и Вологодский уезды, а также польско-литовской интервенции страны начала XVII в. (см.: Васильев Ю.С. Борьба с польско-шведской интервенцией на Русском Севере в начале XVII в.
— Вологда, 1985. — С.47—64).
Сотная содержит наиболее раннее из сохранившихся описание села Грязливицы — будущего г. Грязовца.
Сотная — столбец на 26 нумерованных сставах. На начальном ненумерованном сставе — печать и штамп Московского архива министерства Юстиции (МАМЮ), записи: архивный № 165, хронолог № 2736. В разных местах этого сстава также записи черной тушью:
№ 144; 7140 года; 405; 499. На оборотах последующих сставов, по склеям скрепа подьячего и печать МАМЮ. Источник находится в составе фонда Грамот коллегии экономии РГАДА ( ф. 281, № 2736).
Ю.С. ВАСИЛЬЕВ, АЛ. ГАМАЮНОВ
Словесные записи чисел Сотной в публикации заменены цифро-, выми. Сокращения отдельных слов, имеющиеся в источнике: в. — во дворе; д. — двор; дер. — деревня; м. — место — в публикации сохраняются.
ТЕКСТ СОТНОЙ
(ест. 1) Лета 7140-го декабря в 30 день по государеву цареву и великого князя Михаила Фёдоровича всеа Русии указу вологоцкие писцы первые половины Семен Гаврилович Коробьин да подьячеи Федор Стогов дали сотную с вологодцких книг писма своего и меры 136-го и 137-го и 138-го году Корнильева монастыря игумену Маркелу з братьею на их монастырьскую вотчину на село Грязивицы с селы и з деревнями и с пустошми и на Коптеву и на Перцову пустыню; и игумену Маркелу з братьею теми селы и деревнями и пустошми и пустынями владет по государевым жалованным грамотам и по сей сотнои.
В Комелскои волости монастырь Корнильев на речке на Нурме. А н а монастыре церковь Введение Пресвятеи Богородицы камена да придел Усекновение честные главы Иванна Предтечи да Николы чюдотворца, да придел великомученика Феодора Стратилата, да придел Корнилия Комелского чюдотворца, а в нем почивает преподобный Корнилие Комелскии чюдотворец. Другая церковь Антония Печерского камена ж с трапезою, под нею службы. А в церквах Божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колоколнице колокола, и велкое церковное строенье блаженные памяти государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и прежних вкладчиков и монастырьское.
На монастыре ж келья игуменская, келья казенная, 30 келеи братцких. Да за монастырем д. конюшенной, д. гостиннои, да 2 швални, датоварня, да кожевня, д. хомутеннои, д. служебников монастырьских. У монастыря ж солодовня да кузница. Да на монастырском поле д. коровеи. Под монастырем же 2 мелницы, а в них трои жерновы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 208 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны реке Нурмы и по лугом 300 копен; лесу хоромного и дровяного в длину на 3 версты, а поперег на версту, инде болши, а инде менши.
(ест. 2) Корнильева ж монастыря вотчина.
Село Грязивицы у болота. А в селе церков Рождество Христово, другая церков Петра и Павла да придел Корнилия Комелского чюдотворца, теплая с трапезою; обедревяны клетцки. А в церквах Божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колоколнице колокола, и всякое церковное строенье монастырское и приходных людей. У церквей служат 2 попа, поп Иван да поп Афонасеи, да дьякон Филимон, да дьячок Ивашко, да понамар Якушко. В селе ж два д.
поповых; д. дьконов, д. дьячков, д. Пономарев, д. трапезников Елизарка Васильева; в келье просфорница старица Маремьяна; да 8 келеи, а в них живут нищие, питаютца о церкве Божий. Пашни церковные середние
земли 20 чет в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен; лесу непашенного полторы десятины.
В селе ж д. монастырьскои, а в нем живет старец да служка; да крестьян: в. Федка Савин; в. Сенка Насонов; в. Олешка Иванов с приимышем Софронком Кириловым; в. Пронка Дементьев; в. Гришка Омельянов с племянниками з Гордюшкою да с Еханком Баженовыми;
в. ОскаДернятин; в. Оска Григорьев; в. Гордюшка Осипов; в. Неустроико Насонов; в. Васка Ондреев з зятем с Олешкою Ивановым;
в. Неупокоико Софонов; в. Гришка да Ивашко Назаровы; в. Олешка Матвеев сын кузнец; в. Гришка Прокофьив; в. Ивашко Омельянов;
в. Сенка да Ивашко да Богдашкода Петрушка Ивановы; в. бска Иванов;
в. Несмешка Дементьев; в. Ивашко Фалелеев; в. Ивашко Минеев;
в. Федка да Тимошка Наумовы; да бобылей: в. Богдашко Иванов;
в. Федотко Епифанов; в. Коротаико Парфеньев; в. Окулко Ильин;
в. Окинка Харламов; в. Ивашко Дернятин; в. Богдашко Спиридонов;
в. Наумко Огафонов; в. Кирилко Микитин; в. Гришка Федоров; в. Ивашко Исаков; в. Семка да Митка Ивановы; в. Семка Власьев; в. Фефилко Титов; в. Васка Васильив; в. Ивашко Неупокоев; в. Богдашко Васильив;
в. Оска Иванов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 100 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль 30 копен; болота
меж поль 3 десятины; лесу хоромного и дровяного около поль 10 десятин.
В селе ж торг по воскресеньям, торгуют тутошние и приезжие крестьяня хлебом и всякими мелкими товары; а пошлины збирают на монастырь по государево жалованной грамоте за приписью диака Семена Головина 129-го году.
ГД^е р. Высокое, а0лферовотож,на пруде, а в ней крестьян:
в. Жданко Овдокимов; (ест. 3) в. Обросимко Власьев; в. Сенка Софонов;
в. Первушка Фадеев; в. Ивашко Дмитреев; да бобылей: в. Савка Кирилов; в. Софонко Левонтьев; в. Панка Ондреев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 56 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен; лесу болота полторы десятины.
Дер. Прилепкино, а Бурцово тож,ав ней крестьян:
в. Сенка Иванов; в. .Ивашко да Федка Макаровы; в, Ивашко Окинфеев;
в. Тимошка Микитин; в. Трофимкода Пантелеико Петровы; да бобылей:
в. Корнилко Кондратьев; в. Ивашко Семенов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 42 чети в поле, а в дву по тому ж;
сена меж поль и по заполью 30 копен; лесу болота 5 десятин.
Дер. Останин Починоку болота, а в ней крестьян: в. Степанко да Окинка Третьяковы; в. Давыдко Онцыфоров; в. Левка Ларионов;
в. Симанко Григорьев; в. Гришка Поздеев; в. Симанко Онофреев;
в. Гаврилко Онофреев; в. Поспелко Поздеев; да бобылей: в. Ивашко Еремеев; в. Митка Иванов; в. Обрамко Третьяков; в. Оска да Еремка Григорьевы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 45 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью
30 копен; лесу болота 4 десятины.
Дер. Черниц ын Починок на речке на Комье, а в ней крестьян:
в. Климко Петров; в. Ивашко Мартьянов; в.Демка Мартьянов;в. Сидорко Дементьев, в. Федотко Лукьянов; в. Богдашко да Лучка Яковлевы;
в. Омельянко Юрьев; в. Оникеико Гаврильев; да бобылей: в. Ивашко Матвеев; в. Куземка Мартьянов з зятем с Агеиком Тимофеевым;
в. Тренка да Воинко Васильевы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Комье 30 копен да меж пол 15 копен; лесу непашенного 2 десятины,
болота меж пол 4 десятины.
Сельцо, что была деревня Лапшино на речке на Комье, а в
нем д. монастырской, а в нем живет старец; д. коровеи, а в нем живут коровник да детеныши. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 84 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Комье 50 копен да меж пол 100 копен; лесу хоромного и дровяного около пол
10 десятин.
Дер. Климове на речке на Лухте, а в ней крестьян: в. Богдашко
Еремеев; в. Шишко Митрофанов; в. Корнилко Митрофанов; в. Дружинка Митрофанов; в. Копоско Юрьев; в. Кондрашко Борисов; да бобылей:
в. Оничка Филипов; в. (ест. 4) Безоонко Иванов; в. Ивашко Пантелеев, Первушка Иванов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 56 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью и по речке по Лухте 50 копен; лесу хоромного и дровяного около пол
3 десятины. – Дер. Бурцово Займище на речке на Лухте, а в ней крестьян:
в. Трофимко Лукьянов; в. Гришка Дорофеев; в., Степанко Григорьев;
в. Жданко да Богдашко Микулины; в. Филка Пахомов; в. Тренка Иванов;
в. Якимко Офонасьев; да бобылей: в. Пронка Обросимов; в. Захарко Поликарпов; в. Максимко Фомин. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и позаполью и по речке по Лухте 80 копен; лесу нет.
Дер. Семеновское, Семенково то ж, на пруде, а в ней крестьян: в„ Богдашко Терентьев; в., Пронка да Исачко Сидоровы;
в. Кирилко Ондреев; в. Федка Давыдов; в. Серешкада Васка Онтиповы;
в. Ермолка Федотов; да бобылей: в. Оверка Федоров; в. Васка Яковлев;
в. Потапко Васильив. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 70 копен; лесу пороснягу десятина; лесу ж болота 2 десятины.
Дер. Мясниково на речке на Мяснике, а в ней крестьян:
в. Игнашко Харитонов; в. Васка да Сидорко да Мишка Ивановы;
в. Венедиктъко Иванов; в. Давыдко Степанов; в. Баженко Левонтьев;
в. Тренка Терентьев; да бобылей: в. Ивашко Денисов; в. Нестерко Филимонов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Мяснике 90 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Дер. Камешник на речке на Мяснике, а в ней д. служки монастырьского Петрушки Овдеева; да крестьян: в. Оска да Юдка Гавриловы; в. Пантелеико Григорьев; в. федка Парфеньев; в. Мосеико Кузмин; в. Ивашко Баженов; в. Ивашко Симонов; в. Потопко Федоров;
да бобылей: в. Демко Иванов; в. Захарко Семенов; в. Лучка Олексеев;
в. Сенка Дмитреев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 66 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около пол и по речке по Мяснике 60 копен; лесу нет.
г Дер.Дюкасовона речке на Мяснике, а в ней крестьян: в. Филатко Окинфеев; в. Гаврилко Иванов; в. Мартьянко Иванов; в. Серешка Костянтинов; в. Ковырза Осипов; в. Созонко Нифантьев; да бобылей:
в. Ивашко Кирилов; в. Титко Иванов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли пятдесят (ест. 5) шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Мяснике 50 копен; лесу непашенного около пол 3 десятины.
Дер. Хомутниково на речке на Мяснике, а в ней д. архиепис[ко]пля сына боярсково Ивана Беляева, а в нем живет человек ево Якушко Лапа; да крестьян: в. Тренка Григорьев, в. Евтихе-ико Огафонов; в. Микифорко Филимонов; в. Еремка Филимонов;
в. бобыли Олферкода Богдашко Родионовы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 50 чети в поле, а в дву по тому ж;
сена меж пол и по речке по Мяснике 60 копен; лесу непашенного 6 десятин.
Дер. Корбино на пруде, а в ней крестьян: в. Ивашко Васильев;
в. Демка Григорьев; в. Митка Родионов; в. Нестерко да Тренка Степановы; в. Ларка да Осипко Лаврентьевы; да бобылей: в. Онисимко Давы-.дов; в. Баженко Семенов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 68 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 130 копен; лесу непашенного 7 десятин.
Дер. Починок Кочерино, а Внуково и Малышк-и н о Малое то ж, на суходоле, а в ней крестьян: в. Ивашко Дмитреев;
в. Сенка и Исачко Перфирьивы; в. бобыли Венедеико да Савка Окинфо-вы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен;
лесу болота 2 десятины.
Дер. Дедово на речке на Синке, а в ней крестьян: в. Ефремко Иевлев; в. Климко Максимов; в. Петрушка Микитин; в. Данилко Тимофеев; в. Богдошко Малцов; в. Гришка Григорьив; да бобылей: в. Петрушка Сезонов; в. Ивашко да Климко Ферепонтовы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 84 чети в поле, а в дву по тому i сена на речке по Синке и меж пол 100 копен; лесу болота 7 десятин.
Дер. Ивняг, а Брагинотож,на речке на Хвастовке, а в ней крестьян: в. Васка Офонасьев; в. Богдашко Васильев; в. Митка Кирилов; в. Тараско Родионов; в. Демка Павлов; в. Гришка Прокофьев; да бобылей: в. Федотко Семенов; в. Первушка Зиновьев; в. Дениско Харитонов; в. Гаврилко Яковлев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 80 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Хвастовке 50 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер. Синицы но на речке на Синице, а в ней крестьян: в. Филка Ондреев; в. Петрушка Микифоров; в. Ларка Евсевьев; (ест. 6) в. Васка Филипов; в. Мартынко да Микулка Петровы; в. Левка Оникеев; да бобылей: в. Онисимко Тимофеев; в. Ирашко Иванов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 50 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Синице 100 копен; лесу непашенного
около пол 5 десятин.
Дер. Починок Моклиоково на речке на Синице, а в ней
крестьян: в. Ивашко Селиванов с племянником с Ефремком Ивановым;
в. Парамонко Микифоров; в; Васка Федоров; в. i Баженко Карпов;
в. Игнашко Шестаков; в. Первушка Федоров; в. Гришка Зиновьев; да бобылей: в. Первушка Иванов; в. Непоставко Иванов; в. Ивашко Патре-кеев; в. Гарасимко Прокофьев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол
и по речке по Синице 40 копен; лесу нет.
Дер. что был починок Жоломеино на речке на Белбороде, а в ней крестьян: в. Огафонко Олексеев; в., Ортюшка Федоров;
в. Михалко Первого с пасынком с Федкою Ивановым; в. Игнашко Михаилов; в. Первушка Микифоров; в, Ондрюшка да Панкратко да Тренка Васильивы; да бобылей: в. Михалко Микифоров; в. Фадеико Дементьев. Пашни паханые и’перелогом и лесом поросло середние земли 56 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Белбороде
60 копен; лесу пашенного 5 десятин.
Дер. Починок Крячков на речке на Ключевке, а в ней крестьян:
в. Осипко да Онтонко Пантелеевы; в. Сенка да Микитка да Сенка Дементьевы; в. бобыл Сенка Матвеев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 45 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Ключевке 40 копен; лесу нет.
Дер. Починок Короваево на суходоле, а в ней крестьян:
в. Федка да Титко Олексеевы; в. Лучка Васильев; в. Сенка Семенов;
в. Пятунка Юдин; в. Сенка Филипов; да бобылей: в. Сенка Иванов;
в. Ивашко Зиновьив. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 72 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Дер. Запрудное на речке на Телице, а в ней живут монастырьские служебники: в. Степанко Иванов; в. Ермолка Романов;
в. Гаврилко да Левко Лукины; в. Пятунка Селиванов; в. Сенка Сергеев;
в. Марко Овдокимов; (ест. 7) в. Савка Артемьев; в. Тимошка Федоров. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Талице 40 копен;
лесу болота 5 десятин.
Дер. Скоморохово на речке на Талице, а в ней живут служки монастырьские: в. Максимко да Гришка Ивановы; в. Федка Микифо-ров; в. Ивашко да Онашка Васильивы; в. Мартынко Онофреев; в. Гришка Кузмин; в. Васка Лвов; в. Митка Ульянов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Талице 35 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Дер. Свистуново, а Заречье то ж, на речке на Нурме, а в ней крестьян: в. Самсонко Филипов; в. Юдка Федоров; в. Трофимко Микулин; в. Вторушка Обакумов; в. Фалелеико Нифантьев; в. Матюшка Павлов; в. Парфенко Кондратьев з зятем з Гришкою Васильивым;
в. Сергушка Иванов; в. Федотко Остафьев; да бобылей: в. Ефтихеико Мартьянов; в. Гришка Архипов; в. Евсеико Семенов; в. Федка Кондратьев; в. Сенка Тихонов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 56 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Нурме 60 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Дер. Басаргино на речке на Нурме, а в ней: в. монастырьскои служка Микифорко Якимов; да крестьян: в. Тараско да Васка Омель-яновы; в. Савка да Завьялко Филиповы; в. Федка Иванов; в.’Олешка да Микифорко Тарасовы; да бобылей: в. Ивашко Онисимов; в. Давыдко Кузмин. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 40 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около пол и по речке по Нурме 100 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Дер. Ростилово на речке на Нурме, а в ней крестьян: в. Васка Прокофьев; в. Якушко да Баженко Федоровы; в. Павлик Михаилов;
в. Гаврилко да Исачко Семеновы; в. Баженко Хрисанфов; в. Максимко Микитин; в.. Петрушка Савельев; в. Ефремко да Сергушко да Ивашко Степановы; да бобылей: в. Ефтихеико Ефтихеев; в. Микитка Митрофа-нов; в. Тренка Козмин. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 65 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Нурме 50 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер. Любилово на пруде, а в ней крестьян: в. Сенка да Тимошка да Сидорко Митрофановы; в. (ест. 8) Самуилик Микитин; да бобылей:
в. Пронка Федоров; в. Сенка Шиудаи. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена около пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Село Рождественное на речке на Студенце. А в селе
церков Рождество Пресвятые Богородицы, другая церков Николы чюдотворца теплая с трапезою; обе древяны клецки. А в церквах Божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колоколнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. У церкви служат поп Василеи да дьякон Агеи да дьячок Петрушка да пономар Павлик. В селе ж д. попов; д. дьяконов; д. дьячков;
д. Пономарев; в келье просвирница старица Ксенья; да 5 келеи, а в них живут нищие, питаютца о церкве Божий. Пашни церковные середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сено 20 копен; лесу непашенного 2 десятины. В селе ж крестьян; в. Офонка Григорьив; в. Левка Елисеев;
в. бобыл Микитко Омельянов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 40 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Дер. Заямье на речке на Студенце и на Половозе, а в ней крестьян: в. Сенка да Бориско Ивановы; в. Якушко Логинов; в. Ивашко Полуехтов; в. Кондрашко Яковлев; в; Корепко Осипов; в. Богдашко Микитин; да бобылей: в. Демка Филипов; в. Титко Ульянов; в. Калинка Прокофьев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речкам по Студенцу и по Половозе 45 копен; лесу пашенного 10 десятин.
Дер. Плясово на речке на Половозе, а’в ней крестьян: в. Федко Фомин с племянником с Редкою Лукьяновым; в. Степанко Григорьив;
в. Васка да Максимко Марковы; да бобылей: в. Демка Филипов;
в. Ивашко Юрьив. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 64 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке
по Половозе 35 копен; лесу нет.
Дер. Шепелеве на речке на Половозе, а в ней крестьян:
в. Ивашко да Ондрюшка да Федка Корниловы; в. Гришка Левонтьев;
в. Ивашко, Панфилко Терентьевы; в. Федка Гаврилов; в. Дружинка Поликарпов; да бобылей: в. Трофимко Калинин; в. Якушко Правотор-хов; в. Климко Ондреев; в. Сенка Хрисанфов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло (ест. 9) середние земли 90 чети в поле, а в дву по тому-ж; сена меж пол и по речке по Половозе 150 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Дер. Орефино на суходоле, а в ней: в. служка монастырьскои
Федотко Осипов; да крестьян: в. Максимко да Ондрюшка Степановы;
в. Еремка Архипов; в. Митка Семенов; в. Русинко Иванов; в. Ортюшка Прокофьев; в. Перша Лукьянов; в. Микифорко Родионов; в. Сенка Юдин с пасынком с Петрушкою Ермолаевым; да бобылей: в. Ондронко Павлов; в. Олешка Тимофеев да Давыдко Пантелеев; в. Сысоико Харитонов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 96 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 100 копен;
лесу непашенного 4 десятины.
Сельцо, что была деревня Шишкине, а Новое то ж,
на речке на Токовике, а в нем д. монастырьскои, а в нем живут старец да служебники. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 60 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Токовике 50 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Дер. Осиновец на суходоле, а в ней крестьян: в. Родка Михаиллов; в. Ивашко да Федка Семеновы; в. Ондрюшка Романов;
в. Сергушка Родионов; в. Оска да Баженко Ульяновы; да бобылей:
в. Пятунка да Федка Ивановы; в. Митка Титов; в. Зиновко Олексеев;
в. Ермолка Перфирьив. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 64 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер. Ерзово на суходоле, а в ней крестьян: в. Гришка Яковлев;
в. Ивашко Романов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 13 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер., что была пустош Макренино на речке на Комье, а в ней крестьян: в. Якушко Григорьив с пасынком с Микифорком Пахомовым;
в. Батрак Васильев с приимышем с Никонком Обрамовым; да бобылей:
в. Кипреянко Онофреев; в. Фомко Борисов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 60 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Комье 120 копен; лесу хоромного и дровяного 5 десятин.
Дер., что была пустош Крестово на речке на Нурме, а в ней крестьян: в. Фочка Нифантьев с племянником з Гришкою Тихоновым;
в. бобыл Якушко Павлов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли (ест. 10) 12,чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Нурме 50 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Дер., что была пустош Ж у ч и х а на речке на Токовике, а в ней крестьян: в. Лосничко Осипов; в. бобыли Сенка Кондратьев да Гришка Калинин. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Токовике 50 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Дер., что была пустош Крохино на речке на Студенце, а в ней крестьян: в. Левка Логинов с племянником с Якушком Ивановым;
в. бобыл Ивашко Ондреев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 17 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Студенце 50 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Дер., что был починок Скородумово, а Кабаково и Медведково то ж, на суходоле, а в ней крестьян: в. Сенка да Федка да Панкрашко да Якушко Тимофеевы; в. Омелка Васильив; в: Васка да Гришка Степановы; в. бобыли Сенка Меркурьив да Тренка Дементьевы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 43 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; болота меж пол 3 десятины; лесу непашенного 3 десятины.
Дер., что был починок Лыткино Займище на пруде,
а в ней крестьян: в. Якушко да Нифанко Васильевы; да бобылей:
в. Олешка Дмитреев да Ивашко Давыдов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 25 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер., что был починок Кузмино Займище, а Пшени ч н о е то ж, на суходоле, а в ней крестьян: в. Ивашко Тимофеев;
в. Микифорко Максимов; в. Ивашко да Левко Яковлевы; в. Нерезвик Тимофеев с пасынком с Ывашком Дмитреевым; в. бобыли Исачко да Васка Дементьевы да Угримко Борисов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 60 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заволью 30 копен; болота меж пол 4 десятины; лесу непашенного 5 десятин.
Дер., что был починок Онопин, а Салково то ж, на речке на Комье, а в ней крестьян: в. Обрамко Ондреев; в. Тренка да Вешнячко Лукьяновы; да бобылей: в. Титко Петров да Микитка Пантелеев;
в. Олешка Тимофеев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли (ест. 11) 27 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол , и по речке по Комье 60 копен; болота меж пол 3 десятины; лесу нет. —
Дер., что был починок Малцов, а Пироговотож, на суходоле, а в ней крестьян: в. Ивашко Иевлев; в. Богдашко да Карпунка Посни-ковы; в. Коротаико Мамонов; в. Неупокоико Власьев с племянником с Онтипком Фефилатьевым; в. Первушка да Нефедко да Титко Ивановы;
да бобылей: в. Куземка Онтипов да Власко Меншиков; в. Лумпко Матвеев; в. Гришка Васильев; в. Павлик Исаков да Томилко Огафонов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Дер., что был починок Козлов на суходоле, а в ней крестьян:
в. Сидорко да Якимко да Терешка да Ромашко Давыдовы. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 40 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Погост Никольской на суходоле. А на погосте ц е р к о в Николы чюдотворца древяна клетцки, на холму. А в церкви Божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колоколнице колокола,. и всякое церковное строенье приходных людей. У церкви служит поп Лазар да дьячок Гаврилко Полуехтов да пономар Торопко Сергеев. Не погосте ж д. попов; д. дьячков; д. Пономарев; в келье просвирница Шюмиха, Пашни церковные середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер., что был починок Кулпин, Тюлпин то ж, на суходоле, а в ней крестьян: в. Микитка Яковлев; в. Якушко да Титко да Осипко да Сенка Пантелеевы; в. бобыл Савка Борисов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 19 чети с полуосминою в поле,
а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного полдесятины, болота меж пол десятина.
Дер. Толстиков Починок на речке на Лухте, а в ней крестьян:
в. Богдашко Семенов; в. бобыл Будаико Тимофеев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 25 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Лухте 35 копен, лесу нет
Дер. Белборода, а Обрядихино то ж, на речке на Белбородке, а в ней крестьян: в. Обакумко Осипов, в. Ивашко (ест. 12) да Мишка Исаковы, в. Обрамко Богданов; в. Исачко Филипов с пасынки с Тренкою да с Лучкою Лукьяновыми; в. бобыли Ивашко Дорофеев да Федька Офонасьев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 22 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Белбородке 30 копен; лесу хоромного и дровяного 3 десятины.
Дер. Кривошеий о на речке на Белозерке, а в ней крестьян:
в. Ивашко Филипов с племянником с Филькою Карповым; в. Гришка Иванов сын Добычин; в. бобыли Шюмилко Власьев да Гришка Иванов сын Житкове. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 28 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Дер. Жолтиково на суходоле, а в ней крестьян: в. Савка Семенов, в. Васка Осипов, в. бобыли Селуянко Назаров да Савка Павлов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 28 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен;
лесу непашенного 3 десятины.
Дер. Комарове на реке на Обноре и на Пинше, а в ней в. мельник монастырьскои Мартынко Софонов; да крестьян: в. Кирилко Федоров с племянником с Васкою Ивановым. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 15 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Обноре и меж пол 40 копен; лесу непашенного 14 десятин с полудесятиною.Под тою ж деревнею мельница на реке на Обноре, оба берега Корнильевские, а в ней одне жерновы да толчея; да у мельницы ж д. монастырьскои, а в нем живет старец, мелет на монастырь.
Пустошь, что была деревня Ефимов Починок на речке на Комье, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Комье 30 копен; лесу непашенного к пустоши Куницыне 5 десятин.
Пустошь Офимкино, а Офимьино то ж, на речке на Комье, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 15 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Комье 30 копен; лесу непашенного к пустоши Куницыне 5 десятин.
Пустошь Макарове на речке на Комье, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло (ест. 13) середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Комье 80 копен; лесу непашенного хоромного и дровяного 10 десятин.
Пустошь, что была деревня Ломихино, а Шапкино то ж, на речке на Лухте, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 44 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Лухте по обе стороны 200 копен, да меж пол 50 копен; лесу непашенного около пол 3 десятины.
Пустошь, что была деревня Шишкине у болота, а в ней 9 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен;
лесу болота 3 десятины да лесу ж к пустоши Плетенкове 10 десятин.
Пустошь, что был починок Дешково на речке на Синке, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелетом и лесом поросло середние земли 16 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Синке 35 копен; лесу непашенного к пустоши Плетенкове 5 десятин.
Пустошь, что был починок Красной Холм, а Краен и-к о в о то ж, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 7 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен: лесу непашенного около пол 3 десятины.
Пустошь, что была деревня Малыгино, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 40 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Ситниково на речке на Мяснике, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке и около пол 80 копен; лесу непашенного около пол 3 десятины.
Пустошь, что была деревня Ермакове, Обухове то ж, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 32 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около пол 50 копен; лесу непашенново около пол 4 десятины.
Пустошь, что была деревня Болонин Починок на речке Синке, а в ней 6 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по лушком и около пол-60 копен; лесу непашенного ( ест. 14) 4 десятины.
Пустошь, что была деревня Хвостов Починок на речке на Синке, а в ней 2 м. дворовых. Пошни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по томуж;сена по лушком и около пол 15 копен; лесу непашенного 4 десятины.
Пустошь, что был починок Металово, а Кривоносо-во то ж, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 16 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по лушком и около пол 40 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Калиньего на речке Синке, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 15 чети в поле, а в дву по тому ж, сена по лушком и около пол 30 копен; лесу хоромного и дровяного 8 десятин.
Пустошь, что был починок Страшего на речке на Синке и на Кузнецовке, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речкам по Синке и по Кузнецовке 30 копен; лесу непашенного 7 десятин.
Пустошь, что был починок Кузнецов на речке на Кузнецовке, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Кузнецовке 60 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Мошки у болота, а в ней 2 м. двоовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу болота 10 десятин.
Пустошь, что была деревня Ошеикино, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 7 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 25 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь, что была деревня Калинкин Починок, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен;
лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь, что была деревня Дураково на пруде, а в ней 6 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 39 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен;
лесу непашенного 7 десятин.
Пустошь, что была деревня Моторыгино, ав ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети (ест. 15) в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Руслово, ав ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен: лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь, что был починок Б е л о з е р к а на речке на Белозерке, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что был починок Скрылево на речке на Белозерке, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 10 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке Белозерке 20 копен, лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь, что был починок С л у д а на речке на Белозерке, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 16 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Белозерке и меж пол 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что был починок И в и н о на речке на Ухтоме, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ухтоме и меж пол 35 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Дураково и Рыбникове то ж, на речке на Ухтоме, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 16 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ухтоме и меж пол 40 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь, что был починок Тур ыгино на речке на Ухтоме, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 9 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ухтоме и меж поль 20 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь, что был починок Дуганов, Духонине то ж на речке на Ухтоме, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ухтоме и меж пол 25 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что был починок Кокшары, ав ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного 20 десятин.
Пустошь, что была деревня Ломоватои Починок (сст.16) на речке на Нурме, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 14 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Нурме и меж пол 45 копен; лесу хоромного и дровяного 10 десятин.
Пустошь, что была деревня Щелканов Починок, а Заболотье то ж, на речке на Нурме, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Нурме 50 копен; лесу непашенного 6 десятин.
Пустошь, что была деревня Коровеи Дворец, С т а р-о и то ж, на речке на Нурме, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву rio тому ж; сена по речке по Нурме и меж пол 60 копен; лесу бору 2 десятины.
Пустошь, что была деревня Межаково, а Краснико-\ во то ж, на речке на Нурме, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Нурме и меж пол 100 копен; лесу хоромного и дровяного 10 десятин.
Пустошь, что была деревня Ваулино, а Вакулино то ж, на речке на Нурме, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 14 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке. по Нурме и меж пол 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Подсосенное на речке на Нурме, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Нурме и меж пол 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Стрелицына на речке на Нурме и на Стрелице, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 19 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речкам по Нурме и по Стрелице и меж пол 100 копен; лесу непашенного 4 десятины.
Пустошь, что была деревня Середнеи Починок на ручью, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь Студенец на речке на Нурме, а в неиЗ м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 10 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен, лесу непашенного 2 (ест. 17) десятины.
Пустошь, что была деревня Михалево на речке на Половозе, а в ней 6 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке* 60 копен, лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь, что был починок Козлов, ав ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Добродеево, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по лугом 50 копен; лесу непашенного 6 десятин. . Пустошь, что был починок Рублев, а Рубцове то ж, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по томуж; сена меж пол и по лугом 50 копен;
лесу непашенного 4 десятины.
Пустошь, что была деревня Сидорково, а Скоморохов о то ж, на ручью, а в ней 11 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 48 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по ручью и меж пол 80 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь, что была деревня Комарица на суходоле, а в ней 12м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 55 чети в поле, а в дву по томуж; сена меж пол и по лугом 100 копен; лесу непашенного 8 десятин.
Пустошь, что был починок Еремино, а Волковое то ж, на ручью, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 21 четь в поле, а в дву по тому ж; сена по ручью и меж пол 50 копен; лесу к пустоши к Головкине 10 десятин.
Пустошь, что был починок Родионков, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в
* Название речки не дано.
дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного
около поль 5 десятин.
Пустошь Шелебелицы, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 14 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 15 копен; лесу нет.
Пустошь Захарове на озерке, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 15 копен; (ест. 18) лесу болота
5 десятин.
Пустошь Щелканово, а Блиновотож.ав ней м. дворовое.
Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу болота вдоль на 15 верст, а поперег на 5 верст.
Пустошь Ларюково у Мильшинсково болота, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен;
лесу непашенново полторы десятины.
Пустошь Кузнечиково у Мильшинсково болота, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 8 копен;
лесу нет.
Пустошь Куницы но на суходоле, а ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 16 чети в поле, а в дву по томуж; сена меж пол и по заполью 30 копен; лесу хоромного и дровяного
6 десятин.
Пустошь Обухове Меншое у Лапшинсково поля на ручью,
а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью
50 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь Плетенево, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного к пустоши Шишкине
10 десятин.
Пустошь Комарове на речке на Синице, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Синке (!) 10 копен; лесу
непашенного десятина.
Пустошь Крутец на речке Хвастовке, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж пол и по заполью и по речке по Хвастовке 30 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь, что была деревня Долгое, Федоров Починок то ж, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло
середние земли 40 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного около поль 5 десятин.
Пустошь Хлызнево у болота, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 28 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу хоромного (л. 19) и дровяного 8 десятин.
Пустошь Болотове на речке на Долотовке, а в ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, а в дву по тому ж; сенаоколопол и по речке по Долотовке 20 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь Вороново, ав ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 5 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь Никоново на речке на Синке, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 15 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Синке 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Останкино, ав ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь Красикове, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 17 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 30 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь Полушкино, ав ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 3 десятины.
Пустошь Костино, ав ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 15 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Липняг, ав ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 30 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; лесу непашенного 6 десятин.
Пустошь Туганка на речке Ухтоме, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 15 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Мнево, Засеришкатож,на речке на Чорнои, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Чорнои 15 копен; лесу болота 5 десятин.
Пустошь Валковона речке на Чорнои, а в ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 18 чети в поле, (ест. 20) а в дву по тому ж; сена промеж пол и по речке по Чорнои по обе стороны 60 копен; лесу болота 2 десятины.
Пустошь Мильшино у болота, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 5 копен; лесу болота 20 десятин.
Пустошь Мильково, а Сыропятово то ж, на речке на Талице, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью и по речке Талице 30 копен; лесу болота 15 десятин.
Пустошь Терешино на речке на Талице, а в ней м. дворовое. Пашни лесом поросло середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж;
сена меж пол и по речке по Талице 10 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Кругляк, ав ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 30 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Сорокине, ав ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 5 копен; лесу меж пустоши Сорокины и меж пустоши Скомороховы в длину на 2 версты, а поперег то ж, инде больши, а инде менши.
Пустошь Черепаниха, а в ней 4м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Холмец на речке на Остановке, а в ней 6 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Становке 50 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Сабуриха на речке на Жаровке, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Жаровке 10 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Балуево, ав ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 10 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного 5 десятин.
(ест. 21) Пустошь Жолтиково, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 5 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Розсадилиха, а Головкино тож,ав ней 3 м.З дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 9 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по заполью 20 копен;
лесу к пустоши к Сорокине в длину на полторы версты, поперег то ж.
Пустошь Берсенихана речке на Жаровке, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по заполью 5 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Пустошь Наумиха на речке на Жаровке, а в ней м. дворовое.Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Жаровке 8 копен; лесу непашенного 7 десятин.
Пустошь Дербенка на речке на Жаровке, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по речке по Жаровке 5 копен; лесу непашенного 6 десятин.
Пустошь Обазиха, ав ней 4 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 10 копен; лесу непашенного 9 десятин.
Пустошь Мочалово на речке на Жаровке, а в ней 2м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Жаровке 15 копен; лесу непашенного 20 десятин.
Пустошь Красная на речке на Жаровке, а в ней 2 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 20 десятин.
Пустошь Марфино, а П а н ь ш и н к а то ж, а в ней 2 м. дворовых. Пашни лесом поросло середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж;
сена 5 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Галкинская, ав ней м. дворовое. Пашни лесом поросло середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по заполью 5 копен; лесу непа (ест. 22) шенного 5 десятин.
Пустошь Полежаиха, ав ней 5 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Корнильева ж монастыря отхожие пожни по реке по Сухоне и по реке по Вологде: пожня Долгуша на реке на Вологде на Долгом плесе;
пожня Шарапиха, Суморочиха то ж в Окольней Сухоне в Оназимском прилуке; пожня Устьлежская, Губиха то ж, на реке на Леже; пожня Онтипинскои наволок на Окольней Сухоне; пожня Ондреиха на Окольней Сухоне; пожня Новокупка на Окольней Сухоне; пожня Заанбариха на Окольней же Сухоне; пожня Ветреницы на реке на Леже; пожня Кирлеиха на реке на Верхней Сухоне; пожня Стулиха на усть реке Киексы; пожня Лепентьева, Зимник то ж, на реке на Вологде; пожня Якимиха на Окольней Сухоне против реке Киексы; пожня Шестовариха на Окольней Сухоне; пожня Годылиха на острову на Коневце во шти наволоках; пожня Долгуша на реке на Леже; пожня Попадеика на Окольней Сухоне; пожня Дубенка на Окольней Сухоне; пожня Саватеиха по речке по Дубенке в вершину и за Бережицами; сена на них ставитца 500 копен.
И всего Корнильева монастыря в вотчине погост да 2 села, да 2 сельца, 48 деревень живущих, 90 пустошеи.А на погосте и в селех 5 церквей, а у церквей 13 дворов церковников , 15 келеи, а в них живут
нищие, питаютца о церкве божий. Пашни церковные середние земли 65 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 65 копен; лесу непашенного полсемы десятины.
Да за монастырем и в селех и в сельцах ив деревнях и на пустошах 3 двора монастырьских; двор конюшенной; двор гостиной; 2 швальни;
токарня; кожевня; двор хомутеннои; солодовня; кузница; 2 двора коровьих; двор мельничной; двор архиепископля сына боярсково;
10 дворов служек монастырьских, людей в них 12 человек; 10 дворов служебников монастырьских, людей в них 11 человек; 229 (ест. 23) дворов крестьянских, людей в них 305 человек; 118 дворов бобыльских, людей в них 137 человек; 281 место дворовых. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 4348 чети с пол-полтрет-ником в поле, а в дву по тому ж; сена и с тем, что на отхожих пожнях, 6901 копна; лесу бору 2 десятины, да лесу ж непашенного хоромного и дровяного и пороснягу 646 десятин с полудесятиною, да лесу ж болота 104 десятины с полудесятиною, да поверстного лесу в розных местех в длину на дватцать на девять верст с полуверстою, инде болши, а инде менши.
А платить з живущего в сошное писмо по государеву указу с тритцати с осми чети с третником пашни. А сошного писма в живущем и в пусте 6 сох и полтрети и пол-пол-полтрети сохи; и перешло за сошным писмом 3 чети с полуосминою пашни.
Монастырь Коптева пустыня на речке на Великой. А на монастыре церковь Встретение Господа нашего Исуса Христа, другая церковь Николы чюдотворца теплая с трапезою, обе древяны клетцки. А в церквах Божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строениье монастырьское. Да на монастыре ж 2 кельи братцких, а в них живут строитель старец Матвеи да старец. Да за монастырем д. конюшенной, д. коровеи; в. поп Микита;
в. дьячок Пронка Осеев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Великои 30 копен; лесу непашенного 5 десятин.
Дер. Зыкляево на речке на Великой, а в ней крестьян:
в. Матюшка Иванов; в. Михалко да Софонко Варламовы; в. Михалко да Тренка Григорьевы; да бобылей: в. Демка Пятово; в. Якимко Селивонов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 36 чети в поле, а в дву по тому ж, (ест. 24) сена меж поль и по речке по Великой 40 копен; лесу непашенного 12 десятин.
Дер. Починок Еголин на пруде, а в ней крестьян: в. Ивашко Юрьев; в. бобыли Гордеико Онцыфоров да Исачко Наумов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 20 копен; лесу непашенного 4 десятины; лесу ж болота вдоль на 4 версты, поперег на версту.
Дер. Звереве на суходоле, а в ней крестьян: в. Архипко
Дорофеев; в. Федька Савельев; да бобылей: в. Шюмилко Дмитреев;
в. вдова Дарьица Семенова жена Иванова с сыном с Онтонком. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 27 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль 20 копен, да отхожево сена на пожне на Великой реке на Зверевском чищенье 10 копен; лесу болота вдоль на 2,версты, а поперег то ж.
Дер. Козине на суходоле, а в ней крестьян: в. Игнашко Данилов;
в. Тимошка Дмитреев; в. бобыль Терешка Дементьев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около пол 15 копен; лесу около поль вдоль на версту, а. поперег то ж.
Дер. Медведеве, Захарцово то ж, на суходоле, а в ней крестьян: в. Якушко да Шестачко Дементьевы; в. Олферко Сысоев да Ортюшка Фомин, в. бобыли Олешка Ондреев да Ивашко Яковлев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 21 четь в поле, а в дву по тому ж; сена около поль 15 копен; лесу болота вдоль на версту, поперег то ж.
Пустошь Тюрма на речке на Великой, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Великой 15 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Чащовка, ав ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около пол 10 копен; лесу непашенного 2 десятины.
Пустошь Симачево на речке на Великой, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло серед -(ест. 25) ние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Великой 25 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Карпове, Медведниково то ж, у болота, а в ней м. дворовое. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 7 чети с осминою в пОле, а в дву по тому ж; сена около поль 10 копен;
лесу болота 3 десятины.
Пустошь Дудино у болота, а в ней 3 м. дворовых. Пашни перелогом и лесом поросло середние земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль 20 копен; лесу непашенного 10 десятин.
Пустошь Говорово, Облупаново Займище то ж, а в ней м. дворовое. Пашни лесом поросло середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен; лесу непашенного 5 десятин.
И всего в вотчине Коптев ы пустыни 5 деревень живущих да 6 пустошей. А за монастырем и в деревнях и в пустошах двор конюшенной; двор коровеи; двор попов; двор дьячков; 10 дворов крестьянских, людей в них 14 человек; 7 дворов бобыльских, людей в них 10 человек;
10 мест дворовых. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 211 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 325 копен; лесу
непашенного 61 десятина, да лесу ж поверстного болота в розных местех в длину на 8 верст, а поперег на 5 верст.
А платить з живущего в сошное писмо по государеву указу з дву чети бес полуосмины пашни. А сошного писма в живущем и в пусте полчети и пол-пол-полтрети сохи; и перешло за сошным писмом 7 чети бес полутретника пашни.
А по государево грамоте блаженные памяти государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии за приписью дияка Тимофея Витофтова 94-го году Коптеву пустыню велено ведать Корнильева монастыря игумену з братьею.
Монастырь Оксентьева Персова пустыня на речке на Лухте. А на монастыре церковь (ест. 26) Живонача-льные Троицы древяна вверх, другая церковь Благовещение Пречистеи Богородицы теплая с трапезою древяна клетцки. А в церквах божие милосердие образы и свечи и книги и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье Оксеньтья да Онофрея, начальников тутошние пустыни. Да на монастыре ж келья,а в ней живет строитель старец Иона, да 2 кельи братцких пусты. Да за монастырем д. коровеи; в. поп Микита. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 42 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по заполью 60 копен; лесу рощи десятина. Под тою ж пустынею на речке на Лухте мельница, а в ней одне жерновы, мелет на монастырьскои обиход вешнею водою.
Дер. Липино ла речке на Лухте, а в ней крестьян: в. Еуфимко Митрофанов; в. Микулка Ондреев; в. Мелешкада Кирилко Олексеевы;
в. бобыль Подосенко Максимов. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 30 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж пол и по речке по Лухте 55 копен; лесу нет.
Дер. Сельцо на речке на Лухте, а в ней крестьян: в. Гришка да Ивашко да Тренка Микитины, в. Мосеико да Мишка Ивановы; да бобылей: в. Онтонко Дмитреев; в. Дружинка Ондреев. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 40 чети в поле, а в дву по тому-ж; сена меж поль и по речке по Лухте 30 копен; лесу нет.
И всего в вотчине Персов ы пустыни 2 деревни живущих. А за монастырем и в деревнях двор коровеи; двор попов; 5 дворов крестьянских, людей в них 9 человек; 3 двора бобыльских, людей в них то ж. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли 112 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 145 копен; лесу рощи десятина.
А платить з живущего в сошное писмо по государеву указу с чети бес четверика пашни. А сошного писма в живущем и в пустоте полтрети сохи; и не дошло в сошное писмо 5 чети бес третника пашни.
А по памяти за приписью диака Ивана Ефанова 122-го году П е р с-ову пустыню велено ведать Корнильева монастыря игумену з братьею.
К сей сотнои Семен Гаврилович Коробьин печать свою приложил.
QQQ
ОТПИСНАЯ КНИГА ВВЕДЕНСКОГО
КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ ПЕРЕПИСИ В.Г.ДАНИЛОВА-ДОМНИНА, СОСТАВЛЕННАЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНУ РАФАИЛУ И КЕЛАРЮ АЛЕКСАНДРУ 2 ДЕКАБРЯ 1657 г.
Отписные книги составлялись при передаче монастыря в ведение нового настоятеля и при передаче отдельных монастырских служб новым, ответственным за них лицам: непосредственного имущества монастыря — келарю, казны — казначею, отдельных деревень или промыслов — посольским или приказчикам и т.д. Данные книги являлись документами хозяйственного учета и отчетности лиц, заведовавших монастырем или отдельными его службами.
Отписные книги — исключительно ценный источник. В них дан перечень служителей и работников монастыря; подробно описаны храмы, их оформление, иконы и предметы богослужения; ризница — хозяйственная кладовая монастыря, где хранилась монашеская (братская) и мирская одежда; книгохранилище с его актовыми материалами (царскими грамотами, купчими и прочими документами), рукописными и печатными церковными и светскими книгами;
хозяйственные службы — поварня, мастерские, конюшенный и скотный дворы с инвентарем и скотом и т.д. Данные источники раскрывают перед нами художественные (в иконописи, ювелирном деле, прикладном искусстве, в частности, резьбе по камню, кости, дереву) и литературные богатства монастырей, многие страницы их истории и истории России.
Нам известны 4 Отписные книги Корнильево-Комельского монастыря XVII в.: 1656, 1657, 1659 и 1661 годов. Все они хранятся в Государственном архиве Вологодской области: соответственно — ф. 883, И.Н.Суворова, № 28, 29; ф. 674, А.Е. Мерцалова, .№ 1, 2.
Публикуемая Отписная книга 1657 г. (ГАВО, ф. 883, № 29) хорошей сохранности, на 116 нумерованных листах (современная нумерация архива сделана простым карандашом) в четверку, писана четкой скорописью XVII в. По правому полю листов книги запись:
“К сим отписным книгам Василеи Данилов-Домнин руку приложил.” Внизу листов и в нижней половине последнего, 116-го листа, аналогичные рукоприкладства игумена Рафаила, келаря Александра, попов Ермогена, Логина, Антония, Феодосия, Андреяна. На архивной бумажной корочке книги 2 штампа архива, заголовок:
“Подробная опись зданий и имущества Корнильева монастыря за 1658 год.” На 116 лист. Далее на ненумерованном листе, вверху, слева, на наклейке: 212; справа запись простым карандашом: Опись Корнильева монастыря; ниже — синим карандашом: Корнильева м. 1657 декабрь; 1658; затем чернилами дан список лиц, оставивших рукоприкладства в книге (видимо, сделан Суворовым). За этим листом идет еще один чистый ненумерованный лист. На л. 1 вверху над текстом Отписной книги красным карандашом: 1658. В тексте книги им же подчеркнут ряд слов.
Ю.С. ВАСИЛЬЕВ
ТЕКСТ ОТПИСНОЙ КНИГИ
Лета 7166-го году декабря в 2 день по грамоте великого государя святеишаго Никона всеа Великия и Малыя и Белыя Росии патриарха и по указу великого господина преосвященного Маркела архиепископа во-логоцкого и великопермского Василеи Григорьевичь Данилов Домнин, приехав в Ведение Пречистыя Богородицы в Корнилиев монастырь и взяв в монастырьскои казне отписные прежние книги, по которым отписан был монастырь по указу великого государя святеишаго Никона всеа Великия и Малыя и Белыя Росии патриарха на келаря старца Андреана, и по тем книгам Василеи Григорьивичь (л.1 об.) Данилов Домнин с игуменом Рафаилом и с келарем старцом Александром и с соборными старцы, пересмотря налицо, переписал на новые книги на игумена Рафаила и на келаря старца Александра церкви божий и в церквах божие милосердие образы местные и деисусы и празники и пророки и праотцы и двери царьские и пядницы окладные и неокладные и у образов приклады, венцы, и цаты, и пелены, и в венцах и в цатах и на пеленах камене и жемчуг, и перед образы свечи местные и восковые с красками и гладю, и сосуды церьковные серебряные и оловяные, и покровы, и воздухи, и книги, и ризы, (л. 2.) и кадила серебряные и медные, и паликадила, и всякую церьковную утвар, и на колоколнице колокола, и в казне государевы жаловалные грамоты, и всякие монас-тырьские вотчинные крепости, и денги, и суды серебряные и медные и оловяные, и вкладное плате, и всякую рухляд, и в монастыре братью и служек и служебников по имяном, и на погребах и на ледниках и на поварнях всякие погребные и поваренные суды, и на сушилах всякие монастырьские запасы хлебные и рыбные, и соль, и в житьницах всякой монастырьскои хлеб, рожь и овес и всякой яровой хлеб, и в земле сеяной вмонастырьских(л. 2 об.) полях и в селах, и на конюшенном и на воловье дворех и в селех стоялые и служилые и деловые лошади и коровы и всякой мелкой скот, и монастырьские вотчины, и в них крестьян
и бобылей по имяном, пересмотря переписав, и приказал ведати им, игумену Рафаилу и келарю старцу Александру.
(л. 3) Монастырь Корнилиев на реке на Нурме. На монастыре церьков каменная Введение Пречистыя Богородицы о пяти главах, а на них кресты железные, крыты тесом; а в ней 2 предела, а в пределах служба Усекновение честные главы Иванна Предтечи; а в другом пределе служба Николы чюдотворца. Да к той же церкви приделана церьков, а в ней служба Феодора Стратилата, а другая служба преподобнаго чюдотворца Корнилия надевочюдотворцовым гробом, шатровая о дву главах;
а на них кресты железные. На монастыре же церков теплая каменная с трапезою преподобнаго Антония Великого (л. 3 об.) об одной главе, а на ней крест железной, крыта тесом.
А в соборной церькви Введения Пречистыя Богородицы деисус, Образ Спасов на золоте; а у него прикладу крест аспиден, глава и ручки обложены серебром на цепочке на серебряной на витой; с правую сторону Спасова образа образ Пречистыя Богородицы, архангел Михаил, Петр апостол, Иван Богослов и Яков, брат Господен, Василеи Великий, Петр митрополит, Антонеи Великий, Семион Столпник; а с левую сторону Иван Предтеча, арханъгел Гаврил, Павел апостол, (л. 4) Андреи Первозванный, Иван Златаустыи, Никола чюдотворец, Алексеи митрополит, Кирил Белозерскии, Данил Столпник, все обложены серебром басмленым позолочены, и венцы того же окладу. А над деисусом празников владычних и богородичных и предтечевых 24 образа, все обложены серебром басмленым позолочены, и венцы того же окладу. ‘Да над празники образ Пречистыя Богородицы с превечным младенцем;
по обе стороны образа Пречистыя Богородицы 20 икон пророков, все обложены серебром басмленым (л. 4 об.) позолочены, и венцы того же окладу; а тябла по дереву резаны травы серебряны сусалным серебром. . А над пророки Господь Саваоф да праотцев 26 икон обложены серебром басмленым золочены, и венцы того же окладу, столпцы обложены медью басмленою серебряны; а над праотцы херумими и серафими резаны по дереву, крыты золотом и серебром сусалным.
Двери царьские, столпцы и сень, резаны по дереву травы золочены сусалным золотом, промежь трав процвечивано красками, (л. 5) А на сени образ святыя Троицы в киоте на золоте, да два места написаны образы Тайные вечеря Господа нашего Исуса Христа со ученики. На притворех на дву местех Благовещение Пресвятые Богородицы;
да 4 места 4 ивангилисты. На столицах на правой стороне образ Спасов да Василеи Великий, Иван Златаустыи, архидиякон Стефан да Лаврен-теи; на левом столпъце образ Пресвятыя Богородицы да Григореи Богослов, Никола чюдотворец, да дякон Филип да Еупл. Да в киоте 22 полотенца, а на них писаны по о- (л. 5 об.) бе стороны празники владычни и святые трезвенные, все на золоте; а киот обложен серебром басмленым золочен; под полотенцами налои резной резан по дереву,
травы золочены сусалным золотом; перед ним подсвешник резан по дереву золочен сусалным золотом. Да образы местные: против праваго крылоса образ Живоналные Троицы обложен серебром басмленым, а у него 5 венцов сканные на подзоре, да 3 гривны сканные же, да прикладу понагея образ Николы чюдотворца резь (л. 6) на камени перелефти обложен золотом, на окладе чеканены образ Пречистыя Богородицы да Иван Богослов, а во главе у понагеи камешек да 4 жемчюга, а по углом понагеи 2 камешка да 3 жемчюга; да у того же образа понагея малая круглая створчатая обложена сканью, золочены; да у того же образа крест серебрян с мощмида5 гривен витых серебряных. Образ Введения Пречистыя Богородицы обложен серебром босмою золоченым, а у него 6 венцов камфареные золочены, да прикладу (л. 6 об.) крест аспиден, глава и ручки обложены серебром золоченым, на цепочке на серебряной у креста 6 жемчюгов; да 2 креста аспидных же обложены серебром золочены; да 18 ноугородок серебряных золочены; да по двумя венцы подниз низана жемчюгом. Да у Акима и Анны цата серебряная сканная золочены с камешки различными. Да у цаты же привешено 3 кружки серебряные золочены, во всех по пяти камешков разных, 10 гривен витых серебряных. Да у того же образа прикладу великого господина (л. 7) преосвященного Маркела архиепископа вологоцкого и великопер-мского понагея образ Воплощение Пресвятыя Богородицы резь на белой кости, обложена вся золотом, а круг ее обнизана жемчюгом веревкою; во главе 2* жемчюга барминские да 9 камешков различных;
сорочка отлас червчат, крест низан жемчюгом мелким. Образ О тебе радуетца, обложен серебром басмою, золочен, венец серебрян сканнои с финифтом, подниз жемчюг мелкой; да прикладу крест да Никола рез на черной кости, на них резаны (л. 7 об.) чюдотворцы, обложены серебром сканью; да крест раковинной, обложен серебром сканью, золочен; да 4 гривны серебряные витые золочены. Да у пророка Захария венец серебряной басмленои золочен. Все 3 образа в киоте, а киот резаны травы на древе золочены.
Образ Спас Вседержител на престоле, доска болшая; по обе стороны иконы написано 6 святых; образ и приставки обложены серебром басмой золочены, венцы серебряные басмлены золочены в киоте, а киот обложен медью басмленою (л. 8) золочен.
Над дверми, которые в пределе Иванна Предтечи, деисус; на одной доске образ Спасов да Пречистая Богородица, Иван Предтеча, да
2 архангела, апостолы Петр, Павел, Иван Богослов, Андреи Первозванный, обложены серебром басмленым золоченым. Над ним друг деисус
3 иконы Спас вседержитель, Пречистая Богородица, Иван Предтеча, обложены медью в киоте, а~киот гладкой.
Образ местной преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром басмленым; венец и цата того же серебряного басмленого
* Записано дважды: два.
окладу; (л. 8 об.) 2 гривны витые; у него прикладу понагея Живоначалные Троицы, резана на кости, обложены серебром сканю с финифтом; а киот того образа обложен медью басмленои, золочен.
Образ местной преподобнаго чюдотворца Антония Великого, обложен медью басмленою золочен, и венец тое же меди; да прикладу понагея резана на черной кости святая Троица да Благовещение Пресвя-тыя Богородицы да Усекновение честные главы Иванна Предтечи, обложена серебром сканью.
Образ преподобнаго чюдотворца (л. 9) Кирила Белозерского местной на сусалном золоте в киоте, а киот писан красками.
На другой стороне царьских дверей против левого крылоса образ Пречистыя Богородицы Одегитрия, оклад рез по дереву, золочен сусал-ным золотом, и венцы того же окладу, а цаты серебряные басмленые золочены, а подниз низана жемъчюгом по отласу по червчатому, а в ней 3 камени; да у того же образа прикладу понагея малая створчатая круглая рез на черной кости распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа (л. 9 об.). А на другой стороне Никола чюдотворец, а внутри святая Троица да Воплощение Пресвятыя Богородицы, а во главе образ Спасов золочен; обложена серебром сканью. Да другая понагея образ Николы чюдотворца на раковине, обложен серебром сканью, да 2 креста синолоиные обложены серебром. Образ Успение Пресвятыя Богородицы, средина обложена серебром басмленым, золочена, а венцов сорок, все резные золочены; у него прикладу понагея образ Пречистыя Богородицы Умиление резано на камени димане, обложена (л. 10) серебром сканью, а по полям 8 камешков червецов, да цата серебряная басмленая золочена, а поля у того образа резаны по дереву золочены сусалным золотом. А те 2 образа в киоте, а киот резан по дереву и золочен сусалным золотом.
Образ Пречистыя Богородицы Воплощение на престоле, а по сторонам 2 арханъгела Михаил да Гаврил на особных досках, все 3 иконы обложены серебром басмленым золочены; венцы того же басмленого окладу; в одном киоте, а киот обложен медью басмленою золочен.
(л. 10 об.) Образ Похвалы Пресвятыя Богородицы, обложен серебром басмленым, золочен; и венцы того же басмленого окладу, золочены, да цата того же серебряного басмленого окладу золочена; а киот того образа обложен басмленою медью, золочен.
Образ Николы чюдотворца, обложен медью, золочен, и венец того же окладу.
Над северными дверми образ Введения Пречистыя Богородицы да чюдотворцы Антонеи Великий и Корнилии на одной доске, обложены серебром басмою золоченою; 8 венцов (л. 11) того же окладу.
Образ Спас Нерукотворенныи на краске, венец золота сусалново. Образ местной Антонеи Великий на краске. А посторон царьских дверей по обе стороны против правого и левого крылоса под местными
образами вместо пелен на осми досках писана Бытия на краскех. Да против местных образов 6 свечь поставных восковых, навожены красками, на каменных подсвешниках; да 4 свечи поставных же древя-ных писаны красками, а на них (л. 11 об.) на всех свещах на восковых и на древяных налепы железо белое. Против правого крылоса да посторон царьских дверей над местными иконами по тяблу киот, а в киоте деисус и празники и пророки, резано на кости 27 лиц, обложены серебром басмленым, золочен; а киот обложен медью басмленою. Да по тому же тяблу 20 образов пядницы, обложены 13 серебром, а 7 икон медью басмленою. Да в том же числе 3 иконы малых пядниц. Да на том же тябле образ пядница Филип митрополит (л. 12) ; да во облаце над ним Спасов образ на краске. Да на том же тябле в киоте образ Пречистыя Богородицы Казанские с превечным младенцем, обложен серебром басмленым, венец и гривна резные серебряны золочены; а в гривне 3 камешка различными цветы. Да в том же киоте образ Пречистыя Богородицы Умиление, обложен серебром басмленым золоченым; венец и цата серебряные басмленые золочены; а в венъце и в цате 2 камешка; а те иконы обе пядницы; а киот железо белое.
Да по левую сторону царьских дверей на тябле в киоте деисус (л. 12 об.) и празники и пророки 46 лиц, резаны на кости, а иные писаны в лицах на дереве, обложены серебром басмленым золочены, а киот обложен медью басмленою. Да возле того же киота образ Пречистыя Богородицы Одегитрия пядница, обложен серебром басмленым золоченым; 2 венца серебряные чеканные золочены; а в венъцах у Пречистыя Богородицы и у превечного младенца 15 камешков да раковина в гнезде. Да образ Пречистыя Богородицы Одегитрия пядница, обложен серебром басмленым золоченым; венцы у Пречистыя (л. 13) Богородицы и у превечного младенца серебряные сканные с финифты, а в венцах 7 жемчюгов. Да на том же тябле 14 икон пядниц, обложены серебром басмленым; да на том же тябле деисус в киоте, а в нем 7 лиц, обложены, серебром басмленым золоченым; 3 венца розных серебряные золочены, а у четырех серебряные же басмленые золочены, а киот обложен медью басмленою золочен.
Да над северными дверми деисус в киоте образ Спасов, Пречистая Богородица, Иван Предтеча на сусалном (л. 13 об.) золоте, а киот писан красками. Да образ пядница Зосимы и Саватеи соловецкие чюдотворцы на сусалном золоте, а у него прикладу икона малая резана на кости на белой празники, обложены серебром сканью. А во главе образ Спасов, да над правым крыласом на столпе образ Спасов Нерукотвореныи на краске пядница болшая да пядница Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Деисус мелково писма с празники и со пророки на сусалном золоте в киоте, а киот писан красками. А посторон того же сталпа (л. 14) на всходе икона местная Спасов образ на престоле по правую сторону Спасова образа Пречистая Богородица, а с левую
сторону Иван Предтеча, а в подножии Антонеи Великий да Корнилии чюдотворец. А по обе стороны того Спасова образа на дву особных досках написано 16 святых Спасов образ и сторонние иконы обложены серебром басмленым золоченым; и венцы того же окладу в одном киоте, а киот писан красками, а пелена бархателная, средина участок серебряной, а свеча пред ним восковая гладью на каменном подсвешнике, налеп (л. 14 об.) свинцовой резной позолочены и посеребряны. Да позади того же столпа 6 образов минеи месечных в киоте; промежь ими столпъцы, обложены медью басмленою золочены, пелена бархателная. А по четвертую сторону столпа за правым крылосом 7 икон пядниц на золоте и на краске, писаны празники и святыя, все ветхи, в одном киоте. Да возле того же киота образ Пречистыя Богородицы Одегитрия на золоте ветх, цка болшая. Над левым крылосом на столпе деисус на трех досках, писан красками; да образ доска болшая Знамение (л. 15) Пречистыя Богородицы, а посторон святые Никола чюдотворец да Антонеи Великий на золоте. Да на том же столпе на въсходнои стороне икона местная образ Спас Вседержитель. По обе стороны Спасова образа 2 ангела парящих, а в подножии Кирил Белозерскиида Корнилии чюдотворец; а по обе стороны тое иконы на особных досках написано 6 святых, все три иконы обложены серебром басмленым золоченым; и венцы того же окладу в одном киоте, а киот писан красками; да у того же образа пелена бархателная, средина участок серебряной, (л. 15 об.) А перед тем образом свеча поставная восковая гладью, под нею подсвешник каменной налеп свинъцовои резной позолочен и посереб-рян. Да позади того же столпа 6 икон минеи месечных в киоте. Промежь ими столицы и киот обложен медью басмленою золочены. Да на том же столпе на четвертной стороне в киоте на розных досках многие святые писаны на сусалном золоте. Промежь ими столпъцы, а киот и столъпъцы писаны красками, ветхи. Хоругов на полотенце болшая пядница, писана на обе стороны, на одной (л. 16) стороне Нерукотворенныи образ Спасов, а на другой стороне Введения Пречистыя Богородицы на золоте. А у хоругови 3 прапорцы дорогилныя разноцветные; крест на хоругови древянои позолочен сусалным золотом.
Да фонар выносной слудянои новой болшои; на нем 13 крестов на маковках. Да против левого крылоса налои резан по дереву, золочен сусалным золотом простъцвечиван красками, а на нем образ в киоте Воскресение Христово рез на дереве, обложен серебром сканю золочен; около его на киоте два на десят (л. 16 об.) празников владычних, обложены серебром резью золочены, а на затворах святые обложены серебром басмою золочены. На том же налои в другом киоте крест распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа резь на древе, обложен серебром сканью золочен, глава серебряная литая Спас Нерукотворенныи и у главы по обе стороны херу[ви]ми и серафими, а под ручками святые обложены серебром резью золочены, а на затворех
святые обложены серебром басмою золочены, а перед ними 2 подсвеш-ника белого железа, да противо Спасова образа на тябле паликадило медное болшое (л. 17) резное 32 шандана, дело немецкое, поверх паликадила орел одноглавой, на кисти яблок болшеи стеклянои, обложен серебром, кисть шелк червъчат з золотом. Другое паликадило спускное медное о шти шанъданех, яблоко стекляное, ветхо, кисть шелк вишнев невелика. А противо правого крылоса паликадило медное резное, немецкое дело, о дватцати о четырех шанъданех, яблоко струкамилово, кисть шелковая з золотом. А противо левого крылоса паликадило медное резное, дело немецкое, о дватьцати о четырех шанданах (л. 17 об.), яблоко струкомилово, кисть различных шелков. Противо левого крылоса налои болшои с переделом, а в нем держат книги, писан красками. А крылосы оба писаны красками же.
В соборной церкви в олтаре престол, а на престоле индития тафта двоеличная, а к преднеи стене престола средина бархат серебрян круги золоченые по червчатои земле, крест тафта желтая, да другая прикладная празничная иньдитья ко всем черырем странам. На престоле бархат черной крест отлас белой золотнои по червъчатои земле, крест серебрян (л. 18) волоченова серебра подложена крашениною лазоревою к тремя стенам престола отлас червъчат подложен кинъдяком желтым, а над престолом сень о пати крестах резана по дереву херувими и серафими золочены сусалным золотом и серебром протцвечиваны красками, а под сенью над престолом голуб древянои. Да за престолом крест болшои выносной распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа обложен серебром басмленым золоченым, а венец резной. А на другой сторе распятие Спасов образ да Пречистая Богородица, 9 лиц святых (л. 18 об.) обложены серебром басмленым позолочены, венъцы у всех резные. За престолом же образ Пречистыя Богородицы, обложена серебром басмленым позолоченым, венец резной подниз жемчюж-ная, а в ней 3 камешъка. На другой сторе того же образа писаны святых Николы чюдотворца, Антония Великого да Корнилия чюдотворца, обложены серебром басмленым золочены, венъцы резные. Да перед тем же образом Пречистыя Богородицы на престоле подсвешник медной болшои. Да на престоле Ивангелие тетр, печат московъская в десть, одето черным (л. 19) бархатом, верхняя доска ивангелисты обложены серебром резью золочены, а посреди Ивангилия распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа серебряное чеканное золочено, застешки серебряные золочены, спни и жуки серебряные белые, на престоле же крест древянои, обложен серебром сканью золочен, распятие Христово, Пречистая Богородица, Иван Богослов и венъцы серебряные воляшные золочены; во главе и в ручках и в подножии 8 камешков различными цветы. Да в олтаре же над царьскими дверми крест распятие Христово, (л. 19 об.) рез по дереву, обложен серебром басмленым золочен. Да на жертвенике образ Пречистыя Богородицы Владимерския пядница,
обложен серебром басмленым золоченым, венец и цата того же окладу, подниз и ожереле жемчюжное, да 3 ноугородочки серебряные позолочены. Нажертвенике сосуды служебные: потир, дискос, звезда, блюдцо, лжица, копие-все серебряные. А у потира по венцу слова резные золочены. Да помени тех другие служебные полные же сосуды серебряные, (л. 20) третие служебные сосуды, потир, дискос, блюдечко оловя-ные, звезда и копие железные, да 2 блюдечка серебряных выносных, а на них вырезан крест Христов.
Да образ Пречистыя Богородицы да над горным местом деисус в киоте на трех досках на красках. Да в олтаре в соборной церкви у чюдотворца Корнилия 3 кадила серебряные, первое кадило гладткое с резью; другое кадило лощатое, третее кадило чеканное золочено; да 2 зеркала, стекла врезаны (л. 20 об.) в досках, а около стекол рез по левкасу золочена сусалным золотом.
В олтаре же крест резан по дереву, обложен серебром, над которым воду светят. Да судов в олтаре же: чаша болшая медная водоосвящен-ная, да 2 чарки серебряные, да миса медная, блюдо медное болшое, на котором просвиры носят, 5 блюд оловяных середних, да 2 блюдечка малых оловяных, да блюдо медное, чашка медная кутейная, да 6 укропников медных, 8 (л. 21) шанданов медных, а в том числе 4 поменши, рукомойник да лохань медные.
Да перед соборною церьковью в паперти над [д]верми в киоте деисус на золоте на сусалном, а киот писан по золоту травы красками. В церков идучи на правой стороне икона болшая Господь Саваоф в силах. На той же иконе празники Благовещение Пречистыя Богородицы да Рождество Христово да Богоявление Господне, под ними написано подобие церкви соборные о пяти главах, киот древянои, писан красками. Перед образом подсвешник резан по дереву, золочен сусалным золотом. Да на той же (л. 21 об.) стороне образ преподобнаго чюдотворца Корнилия на золоте сусалном, ветх.
Образ царевича Иасафа к пустыннику Варламу в киоте, а киот писан красками. Образ Указание преподобнаго отца Иванна Лесвечника, писан красками, в киоте, а киот писан красками. Образ Темница затворников в киоте, писан красками, а киот писан красками же.
По левую сторону дверей образ Пречистыя Богородицы Устюжские с превечным младенъцом на красках в киоте, а киот писан красками. Перед (л. 22) образом подсвешник резан по дереву, покрыт сусалным серебром. Да 3 иконы: икона Прошествие Израиля сквоз Чермное море, другая Ноев ковъчег, третея икона Ополчения на Ерихон Исуса Наввина и падение стен ерихонских, на красках, в одном киоте, а киот писан красками.
Да в пределе Усекновение честные главы Иванна Предтечи, деисус на тябле Спасов образ; на правую сторону Пресвятая Богородица, Михаиле арханъгел, апостол Петр, да образ Усекновение честные главы
Иванна Предтечи, да образ Николы (л. 22 об.) чюдотворца. А по левую сторону образ Иванна Предтечи, Гаврил архангел, Павел апостол.
Двери царьские столпцы и сень на сусалном золоте. По правую сторону царьских дверей местной образ Усекновение честныя главы Иванна Предтечи на красках, поля обложены серебром басмленым золоченым, венец того же окладу. Да местной образ чюдотворца Корнилия на золоте. Да по левую сторону царьских дверей образ Пречистыя Богородицы Одегитрея на золоте, (л. 23) 2 образа болшие пядницы Пречистыя Богородицы Казанъские на золоте, ветхи. Да перед образом Пречистыя Богородицы Одегитрея подсвешник резной золочен.
Да в олтаре престол, а на престоле индитья бархатея травчатая;
с передние стенки престола киндяшная средина дороги червчатые, крест кинъдяк зеленое. На престоле покров кинъдяк алой, средина бархат золотнои по зеленой земле. За престолом образ Пречистыя Богородицы Одегитрия на краске, (л. 23 об.) Над горним местом деисус в трех лицах на краске. На северных дверех Благоразумный разбойник на краске. По другую сторону олтаря в пределе у Николы чюдотворца деисус на тябле образ Спасов Пречистыя Богородицы, образ Иванна Предтечи, образ архангел Михаил, да арханъгел Гаврил, да апостоли Петр и Павел. Перед деисусом паликадило древяное, 4 шандана медные. Двери царьские столпцы и сень на сусалном золоте, (л. 24) Да местных образов: образ Пречистыя Богородицы Одегитрея на золоте, образ Николы чюдотворца по полям обложен серебром басмленым золоченым, венец того же окладу золочен. Да образ Знамение Пречистыя Богородицы, по сторонам Антонеи Великий да чюдотворец Корнилии на краске. Да перед образом подсвешник древянои золочен.
В олтаре на престоле индитья бархателная травчатая, напреди престола кинъдяшная, средина дороги червчатые, крест киндяк лазорев. (л. 24 об.) На престоле покров крашенинной, за престолом образ Пречистыя Богородицы Казанские на золоте, а на другой стороне писаны Никола чюдотворец, Антонеи Великий, Корнилии чюдотворец на краске.
В пределнои церкви феодора Стратилата на тябле деисус, Спасов образ, по правую сторону Пречистая Богородица, арханъгел Михаил, Петр апостол, а с левую сторону Иван Предтеча, архангел Гаврил, Павел апостол, а те все иконы обложены серебром басмленым золоченым. Против Спасова образа на тябле (л. 25) паликадило медное невелико о двунатцати шанданех, яблоко древяное, кисть шелк червчат.
Двери царьские ивангелисты и сень и столпъцы обложены серебром басмленым золоченым. На сени у Живоначалные Троицы и у Вечери Тайны Господни. На царьских дверех, на притворех у Благовещения и у еванъгелистов и на столпъцах у святых и всего числом 26 венцов резных позолочены серебряных. Да местных образов по правую сторону царьских
дверей: образ Пречистыя (л. 25 об.) Богородицы [с] страстми, обложен серебром басмленым золоченым, венъцы серебряные резные золочены. У Богородицы и у превечного младенца в веньцах 4 камени: 2 червчатых а 2 зелены в гнездах; а подниз у Богородицы низана жемчюгом по отласу по червчатому, а в ней 3 камешки. Да у нее же Богородицы прикладу складни в меди образ Пречистыя Богородицы да Никола чюдотворец, обложены серебром басмленым золоченым, венъцы сканные. А у Богородицы и у превечного младенца и у чюдотворца Николы ожерелеица жемчюжные, а киот (л.26) у нее обложен медью басмленою золочен. А перед нею свеча поставная болтая восковая, насвешник свинцовой резной позолочен и посеребрян.
По левую сторону царьских дверей образ местной Феодора Страти-лата, обложен серебром басмленым золочен, венец и цата серебряная сканю с финифты, а киот обложен медью басмленою золоченой. А против иво свеча болшая восковая гладью, насвешник свинцовой резной позолочен и посеребрян. А под теми местными образами (л. 26 об.) вместо пелен писаны Быти, на северных дверех писан Авраам, Иисак, Ияков, да Изгнание Адамле на краске.
В олтаре на престоле индитья крашенина лазоревая, крест полотен-нои, за престолом образ Пречистыя Богородицы на золоте.
В той же церкви, а в другой службе преподобнаго чюдотворца Корнилия на тябле деисус Софеи премудрости Божий, с правую сторону Василеи Великий, Павел Обнорский, Семион Столпник; по другую сторону Никола чюдотворец, Корнилии чюдотворец (л. 27); все обложены серебром басмленым золочены; венцы и столицы обложены того же окладу позолочены.
Да в той же церкви над обеими деисус 20 празников владычних, оклад серебряннои басмленои позолочен, венъцы и промежь ими столпъцы того же серебряного басмленого окладу позолочены. Над праздники образ Знамение Пречистыя Богородицы да образов дванаде-сят пророков. Образ Пречистыя Богородицы и пророки обложены серебром басмленым золочены; (л. 27 об.) венцы и промеж ими столпъцы того же серебряного басмленого окладу золочены. А над пророки Господь Саваоф да два надесят праотцев, обложены серебром басмленым золочены, а венъцы того же серебряного басмленого окладу золочены, а промежь ими столпцы обложены серебром басмленым. А над праотцы херувими и серафими резаны по дереву золочены сусалным золотом и серебром. Двери царьские и сен и столпцы обложены серебром басмленым золочены; венъцы у святых серебряные резные золочены, (л. 28) Да по правую сторону царьских дверей образ Пречистыя Богородицы Умиление, обложена серебром басмленым золоченым; венцы и цаты серебряные сканью на подьзоре золочены с финифты, у цаты крест серебряной с мощьми; да другой крест серебряной же, а в нем крест медной воляшнои, подниз низана жемчюгом
мелким; в поднизи звезда серебряная, а в ней камень хрустал турапьем жемчюшки, а в венъце и в цате болших и малых различных 14 камешков. Да у того же образа пелена бархат (л. 28 об.) золотнои по червчатои земле, опушка дороги алые, а на нем крест низан жемчюгом. Да перед тем же образом, свеча местная восковая навожена красками, налеп свинъцовои резной позолочен и посеребрян; подсвешник древянои левкашен. А в прежних отписных книгах та же икона написана в другом месте Владимерскою с тем же окладом и с прикладом и с пеленою. А над той же иконой написано дачи государя царя и великого князя Ивана Василивича всеа Русии.
3 пядницы менших; (л. 29) оклад серебряной басмленои и золочен, и те 3 иконы в нынешних книгах написаны в числе во окладных в тритцати в трех пядницах, которые написаны на тябле и на стенах и над северными дверми и те 3 иконы в том же числе с теми же иконами.
Да по левую сторону царьских дверей образ Пречистыя Богородицы Одегитрея обложен серебром басмленым золоченым, и венец того же серебряного басмленого окладу золочен; поднис ожереле и зарукавие низан жемчюг мелким, а в венце (л. 29 об.) и в поднизи 6 камешков обычных. Да у того же образа 5 гривен басмленые золочены да 6 гривен витых серебряные. У того же образа киот и столпцы резаны по дереву, золочены золотом и серебром сусалным.
На северных дверех писан Благоразумный разбойник с красками, Да над теми же северными дверми двои складни; на однех писан образ Пречистыя Богородицы да Никола (л. 30) чюдотворец, Алексеи митрополит; на других складнях образ Пречистыя Богородицы с преподобными, обложены серебром басмленым золочены. А у Пречистыя Богородицы венец сканнои золочен с финифты. На иво чюдотворцове гробе образ иво преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром басмленым золочен; венец серебряной того же басмленого окладу золочен; в венце 3 камени, цата серебряная резная золочена. А на иво чюдотворцове гробу покров, (л. 30 об.) а на нем, покрове, вышит иво преподобнаго чюдотворца Корнилия образ разными шелки; а венец шит золотом, а около венца обниз жемъчюжная в одну строчку. А около иво чюдотворцовы ризы шито золотом и серебром, а [в] возглавии его чюдотворца Корнилия образ вышит Знамение Пречистыя Богородицы. А по полям того покрова вышит золотом иво чюдотворцов тропар и кондак. Да другой покров бархат рытой по червчатои земле, травы черные, (л. 31) опушка бархат рытой, разные цветы, в средине крест тавтянои. Да третей покров тафта вишнева, крест шит золотом и серебром; около креста низано жемчюгом, в одну строчку, накищено шелком лазоревым. Да четвертой покров тафтян, черн, ветх. Над гробом чюдотворца Корнилия образ болшои местной преподобный чюдотворец Корнилии обложен серебром басмою золочен, венец серебряной же (л. 31 об.) басмлен золочен, а в нем 3 камени: камень зелень,
а 2 червьчаты; прикладу крест резной на черной кости обложен серебром сканью; во главе жемчюг; да понагея створчатая четвероуголная рез на черной кости; внутрь святая Троица да Воплощение Пречистыя Богородицы; во главе Спасов образ; да понагея круглая створъчатая, рез на черной кости; на ней распяти Господне, на другой стороне многия святыя. Внутри святая Троица да Воплощение Пречистыя Богородицы, обло-(л. 32) жена серебром золочена. Да икона рез на древе образ Пречистыя Богородицы Одегитрия; около ея деисус на другой стороне святая мученица София и чада ея Вера и Любви и Надежа, обложены серебром сканю; крест серебрян воляшнои маленкои золочен с финиф-ты; на нем вырезан Спасов образ; у него 4 жемчюга; да крест серебрян с чернью складной; да крест медной с мощми складной, крест серебрян позолочен с мощми. Да икона резь на кости образ Пречистыя (л. 32 об.) Богородицы Воплощение, около ея святые обложены серебром. Во главе Спасов образ, да 2 золотых, да 7 ноугородок, да денга позолочена. А образ в киоте, а киот обложен медью золочен; а поверх киота сень, а на сени Господь Саваоф, а у Саваофа и у превечного младенца венцы серебряные басмленые золочены. А по старонам образа над гробом чюдотворцовым Антонеи Великий, Кирил Белозер-скии, Павел Обнорский, Сергии Нуромски; а превыше Кирила и Павла (л. 33) херувим и серафим; все обложены серебром басмою золочены;
и венцы у них того же басмленого окладу.
Да у чюдотворцова гроба на правом столпе образ Пречистыя Богородицы Умиление со святыми пядница, оклад серебрян басмлен золочен; венец сканнои золочен с финифты. А во облаце святая Троица, венцы сканные золочены; а у него прикладу понагея резь на кости.
Образ Благовещение Пречистыя Богородицы, обложен серебром сканью (л. 33 об.) позолочен, а в нем 6 жемъчюшков да 5 камешков;
да во главе камешек червец да 4 жемчюшки; да крест; да камень до стокан виницеискои лазорев, обложен серебром золочен; а в нем
2 жемчюшка да 2 камешка червецы; а другой крест аспиден, обложен серебром. А икона Пречистыя Богородицы и крест приложены на чепочке на серебряной, у того же образа пелена шита золотом и серебром и шелки на червчатои тафте, опушка бархат золотнои; на нем (л. 34) крест серебрян кованой; 8 кистей разные шелки. На левом столпце образ преподобнаго чюдотворца Корнилия пядница, обложен серебром басмленым золочен. Во облаце образ Пречистыя Богородицы Знамение. Венцы у чюдотворца и у Богородицы того же окладу. У него же чюдотворца Корнилия пелена отлас червчат низан жемчюгом, а по краям и в средине крест и дробницы серебряные, а средина отлас вишнев подложен тафтою желтою; 10 кистей шелк червчат з золотом (л. 34 об.) а поверх киота над чюдотворцовым гробом по полотну писаны
3 кресты и травы разными красками. А сванную сторону чюдотворцова гроба приложена доска, а на ней 3 круги, обложена медью басмленою
золоченою; да решетка железная посеребряна. Да перед чюдотворцовым гробом свеча поставная болшая восковая навожена разными красками, насвешник медной, подсвешник каменной.
Да пядниц окладных 33 иконы на тябле и на стенах (л. 35) и над северными дверми. Да пядница же образ Пречистыя Богородицы Одегитрия, обложен серебром басмою золочен; венец того же окладу, а в венце 6 камешков. А у него прикладу икона на белой кости резаны празники, обложена серебром сканю. Глава у иконы тощая медная, а на ней Спасов образ. У тое же иконы пелена бархат червчат, а на ней крест серебрян кован.
Да образ преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром с трубами басмою золочен, (л. 35 об.) Во облаце Воплощение Пречистыя Богородицы; венцы [в]се резные золочены. У чюдотворца же цата басмленая; да прикладу крест серебряной с мощми, верхная страна зделана сканью, а сторона испод гладкой. А в нем 5 камешков различных, а во главе жемчюг да 2 веревочки жемчюжные въдвое. Да у тое же иконы пелена бархат золотнои по червъчатои и по зеленой земле. А под теми под обеими иконами налои празничнои резан по дереву золочен процвечиван красками. А перед теми иконами 2 подсве — (л. 36) шника резаны по дереву золочены золотом и серебром сусалным.
Да в той же службе преподобнаго чюдотворца Корнилия паликадило медное, бывало позолочено о двунатъцати шанданех, под ним яблоко древяное, кисть шелк червчат з золотом; другое паликадило медное же спускное невелико о двунатцати шанданех, а под ним яблоко древяное, кисть шелк червъчат з золотом.
Да в церкви же 2 налоя, писаны красками, а в них держат книги.
Олтар. Да в олтаре на престоле (л. 36 об.) индитья бархат черной, а по сторонам бархатея цветная. А на преднеи стене престола бархат золотнои по червчатои земле, крест отлас белой, обложена тою же бархатеею. Да в олтаре же за престолом образ Пречистыя Богородицы Одегитрия обложен серебром басмою золочена с трубами, венцы серебряные золочены, а в венъцах 6 каменев, подниз жемчюжная, а в ней -камешек. Да на престоле Ивангелие, печат московская вдесть, одето бархатом черным; распятие и ивангелисты резные (л. 37) серебряные. Да на престоле крест осенялнои, обложен серебром резным золочен; а в нем 3 камени. На жертвенике сосуды служебные: потир, дискос, и звезда, и образ Пречистыя Богородицы, илжица, и копие—все серебряные; а потир через грань золочен.
Покровы служебные участок серебрян, обложен разными цветы, камочками соломянкои. Да в церкви же чюдотворца Корнилия в паперти над церковными дверми деисус Спас да Пречистая Богородица, писан красками, в киоте, пядницы, ветхи.
В церков идучи на левой (л. 37 об.) стороне икона болшая образ чюдотворца Корнилия да житие его, 44 места на золоте, в киоте, а киот
писан красками. А перед ним свеча местная восковая, писана красками;
насвешник железо белое.
По правую сторону церьковных дверей 2 иконы в одном киоте;
образы местные, доски болшие, на одной доске писано Отечество в силах; на той же иконе Спас на престоле в десную и во Пречистыя Богородицы, а с левую сторону Иванна Предтечи, 2 архангела, (л. 38) а под ними лики святых 10 мест. А на другой доске Второе Христово пришестьвие и Страшный суд; оба образа на золоте в киоте, а киот писан красками. А перед ними 2 подсвешника точены, один золочен сусалным золотом, а другой крашен красками.
А на другой стороне церкви в паперти 3 иконы в киоте. На первой иконе Составление псалтыри Давида царя; на другой иконе Притъча Разума человеча и праведного душа превыше солнца; на третей иконе Исход праведнаго души.
В теплой церкви Антония Великого (л. 38 об) деисус на тябле образ Спасов, сторону образ Пречистыя Богородицы, архангел Михаил, Петр апостол, Иван Богослов, Василии Великий, Петр, Иона митрополиты, Кирил Белозерскии, Павел Обнорский. По другую сторону Иван Предтеча, архангел Гаврил, Павел апостол, Иван Златоустыи, Никола чюдотво-рец, Сергии да Никон Радонежские, да Корнилии чюдотворец — все на сусалном золоте, а тябла писаны красками.
Двери царьския, сень и столпъцы рез по дереву золочены сусалным (л. 39) золотом. Да местные образы противо правого крылоса образ Живоначалные Троицы да Антонеи Великий, Корнилии чюдотворец;
Троица и Антонеи на золоте, а Корнилии чюдотворец на краске. Да по другую сторону царьских дверей противо левого крылоса образ Пречистыя Богородицы Одегитрия на золоте, образ Введения Пречистыя Богородицы на золоте, да образ Знамение Пречистыя Богородицы; по сторонам Антонии Великий да Кирил Белозерскии молящия, на краске.
На северных дверех Благоразумный разбойник; над северными дверми (л. 39 об.) икона Воплощение Пречистыя Богородицы, а около ея 6 святых на краске.
В церкви же паликадило медное о двунатъцети шанъданех, яблоко древяное, кисть нитяная красная. Да в церкви же перед местным образом Живоначалныя Троицы свеча поставная, древяная, писана красками; насвешник железо белое; да налои поставной, ставят на него образы; да 4 подсвешника древяных точены, крашеные.
В олтаре за престолом образ Пречистыя Богородицы на золоте, инъдитя крашенинная к преднеи стене престола бархателная; (л. 40) крест осенялнои, писан на сусалном золоте, ветх; зеркало хрусталное, обложено белым железом.
Да в трапезе над церьковными дверми икона, а на ней писан Спасов образ, по правую сторону Пречистыя Богородицы, а з другую сторону Иванна Предтечи. На той же иконе Союз любве дванадесятиих апостол;
да на той же иконе образы Антонии Великий да Корнилии чюдотворец;
а икона на золоте. По правую сторону церковных дверех деисус в полных лицах с празники и со многими святыми, писан (л. 40 об.) красками. А перед деисусом паликадило медное о шти шанданех, яблоко медное, да камешек хрустал, кисть шелк красной.
Образ Знамение Пречистыя Богородицы, а по сторонам Антонии Великий да Корнилии чюдотворец на краске, да образ Пречистыя Богородицы Казанские на краске пядница.
По другую сторону церковных дверей образы местные деисус в киоте, на середнеи доске Отечество, а по сторонам по правую сторону образ Пречистыя (л. 41) Богородицы, Михаил архангел, Петр апостол; по левую сторону Иван Предтеча, архангел Гаврил, Павел апостол—все на
краске.
В трапезе же с приходную сторону на столпе деисус в киоте Спас Вседержител, Пречистая Богородица, Иван Предтеча— все 3 пядницы на краске, а киот писан красками. Да на том же столпе на дву сторонах от церковных дверей и от брацково стола 2 иконы пядницы Моление Пречистые Богородицы, в подножии у обеих Корнилии чюдотворец; обе пядницы на краске, на въсходнои (л. 41 об.) стороне столпа образ чюдотворца Корнилия на краске пядница. Да у келарские на стене образ пядница Пречистыя Богородицы на золоте, ветх.
Да перед трапезой в паперти Спасов образ, по обе стороны Спасова образа 2 ангела парящих. На той же иконе в подножии Антонеи Великий да Корнилеи чюдотворец, а икона на золоте, а киот писан красками.
Ризница под колоколницею полатка каменная, а в ней церьковных (л. 42) риз: ризы преподобнаго чюдотворца Корнилия камчатые белые, оплече отлас червчат, а на нем крушки золотные. Ризы бархат серебрян, круги на нем золотные с красным шелком, оплече вышито золотом и серебром по черному бархату, круживо подолное тафта двоеличная подпушена киндяком зеленым. Ризы отлас золотнои по червчатои земле, оплечье вышито золотом и серебром по черному бархату, круживо подолное, камочка кизылбаская подпушена дорогами червча-тыми. (л. 42 об.) Ризы участок серебряной, оплече вышито золотом и серебром по червчатому отласу, круживо подолное, дороги полосатые, подпушка дороги червчатые. Ризы обяр золотная по белой земле, оплече бархат по желтой земле, травы черные, круживо подолное, камка червчатая, подложены зенъденю красною, подпушена тафтою желтою. Ризы отлас травчатой по белой земле, оплече бархат рытой, травы зеленые, по червчатои (л. 43) земле, круживо подолное, камка чешуйчатая цветная, подложены киньдяком лазоревым, подпушка киндяк алой. Ризы участок цветной з золотом и с разными шелки, оплече бархат червьчат з золотом по червъчатои земле, круживо подолное, бумазея желтая, подложены зеньденью зеленой. Ризы камчатые, а камка куфтер червчатои, оплече золотное по червчатои земле травчатой, круживо подолное, камка лазоревая, подложены киндяком лазоревым, а круживо
подложено (л. 43 об.) дороги полосатые. Ризы ветхи камка белая куфтерь, оплече отлас золотнои по червчатои земле, подложены киндяком зеленым, круживо подолное дороги полосатые, подпушено дорогами желтыми. Ризы ветхи камчатые белые травчатые, оплече золотное по червъчатои земле, подложены киндяком лазоревым, круживо подолное тафта осиновой цвет цвет (!), подпушка киндяк осиновой цвет. Ризы камка цветная двоеличная, (л. 44) оплече отлас золотнои по червчатои земле, подложен крашениной лазоревою, круживо подолное дороги полосатые подпушена киньдяком червчатым. Ризы камка куфтер зеленой, оплече бархат золотнои лазорев, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное тафта двоеличная. Ризы камка белая, оплече золотное по червчатои земле, подложены киндяком лазоревым, круживо подолное тафта желтая, подпушено (л. 44 об.) киндяком осиновой цвет. Ризы камка цветная, оплече бархат рытой червчат по белой земле, подложены крашениной лазоревою, круживо подолное, камочка мелкотравная дымчатая, подпушено дорогами червчатыми. Ризы камка зеленая куфтерь, оплече бархат золотнои травы разных шелков, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное тафта двоеличная шелк червчат с лазоревым, подпушка (л. 45) тафта алая. Ризы тафта желтая, ветхи, плачены, оплече отлас золотнои- по червчатои земле, подложены крашениною зеленою, круживо подольное дороги червча-тые, подложено крашениною лазоревой. Ризы постныя камка травчатая по лазоревой земле, оплечье вышито золотом и серебром по черному бархату, подложены киндяком зеленым, круживо подолное, кушак шелковой полосатой, подложено дорогами червчатыми. Ризы отлас лазоревой, оплече серебро (л. 45 об.) и золото по желтой земле поленяло, подложены киньдяком зеленым, круживо подолное дороги полосатые, подпушено теми же дорогами. Ризы камка куфтер лимонной цвет, оплече шито золотом и красным шелком, крушки по камке лазоревой, подложены крашенинною лазоревою, круживо подолное кутня гвоздичной цвет, подпушка дорогами белыми. Ризы обяринные гвоздичной цвет, оплече обяр серебряная по желтой земле, подложено крашениною (л. 46) лазоревой, круживо подолное тафта осиновой цвет. Ризы камчатые, ветхи, оплече бархатея цветная, подложены крашениной лазоревою, круживо подолное полосатое. И тех риз не объявилос, издержаны в починку.* Ризы киндячные желтые, оплече обярь черная серебром, подложены крашениною черною, круживо подолное кинъдяк мясной цвет. Ризы бархат цветной на золоте, ветхи, оплечье вышито золотом (л. 46 об.) и серебром и шелки по таусинному отласу, крест, дробницы серебряные золочены, подложен киндяком зеленым, круживо подолное дороги зеленые. Ризы камка зеленая, ветхи, плачены, оплече бархат червчат золотнои, подложены крашениной лазоревой, круживо подолное камка лазорева. Ризы камка цветная, ветхи, оплече, бархат золот-
*Слова после запятой записаны иным почерком, видимо, позднее.
нои по червчатои земле, крест и звезда того же бархату, подложены крашениной лазоревой, круживо подолное камка (л. 47) лазорева. Ризы. камка цветная, ветхи, оплече бархат золотнои по червчатои земле, крест и звезда того же бархату, подложены крашениною лазоревой, круживо подолное киндяк зеленой. Ризы камка двоеличная, оплече отлас серебряной, подложены крашениною, круживо подолное, подпушено крашениною зеленою. Ризы камочка мелкотравная нагой цвет, оплече участок серебряной травы золотные и шелк (л. 47 об.) разной, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное дороги алые, подпушены киньдяком зеленым. Ризы ветхи, бывала кутня зеленая, осталос тех риз вполы; и другая половина в то место построена тафта виницеиская двоеличная, ветха, оплече бархат бывал золотнои, ветх, подложены крашениною лазоревую, круживо подолное кинъдяк зеленой, подпушены тафтою червчатою. Ризы ветхи, камкосея лимонной (л. 48) цвет, оплече бархат рытой по красной земле травы черные, подложены крашениною зеленой, круживо полдолное (!) тое же крашенины. Ризы ветхи, киндяк вишнев, оплече бархатея цветная по зеленой земле, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное полосатое. Ризы белыя, полотно немецкое, оплечье отлас цветной бывал, ветх, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное тафта зеленая, (л. 48 об.) Ризы бархатея дымчата цвет, оплечье камкосея лимонной цвет, круживо подолное крашенина, подложена тою же крашениною. Ризы мухояр вишнев, ветхи, оплечье бывало камка золотная, круживо подолное крашенина лазорева, подложены крашениною зеленою. Ризы белыя, ветхи, плачены, бывали бархателные, оплече бывал бархат золотнои червчат, ветх, бес подкладки, (л. 49) круживо крашенина зеленая. Ризы киндяк лимонной цвет, оплече камка травчатая травы белыя по черной земле, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное киндяк зеленой. Ризы новые полотняные, оплече мухояр полосатой. Ризы новые полотняные, оплече камка цветная, круживо подолное крашенина зеленая. Ризы полотняные, оплече камка (л. 49 об.) цветная, подолник крашенина лазорева. Ризы полотняные новые, оплече бархат золотнои, ветх, по червчатои земле, подолник крашенина лазорева. Двои ризы полотняные, ветхи, оплече у обеих выбойчатые. Ризы полотняные, ветхи, плачены, оплече камка мелкотравная.
Стихари. Стихар подризнои тафта алая, (л. 50) ветхи, плачены, ердан тафта желтая, опушка тафта зеленая, подложен крашениною. Стихар изуфрянои чернь, ердан и зарукавье бархат червчат золотьнои, опушка крашенина зелена, ветх. Стихар подризнои камка цветная, белая з , золотом и с черным шелком, оплече и круживо и зарукавье камка цветная по алой земле, подложен крашениною, круживо подолное дороги алые. Стихар подризнои обяр серебряная по желтой земле, оплече и зарукавь — (л. 50 об.) е и круживо подолное отлас таусиннои, подложен киндяком лазоревым, круживо подолное дорогами червчаты-
ми. Стихар дьяконской по червчатому отласу, бытия и яковля, оплече и зарукавье бархат золотнои по белой земле, круживо подолное камка кизылбашская цветная, подложен киндяком, подпушка под круживом дороги полосатые. Стихар дьяконской камка червчатая куфтерь, оплече и зарукаве бархат золотнои по зеленой земле, травы белые, круживо подолное камка травчатая, подложен крашениною лазоревою, круживо подложено дорогами (л. 51) червъчатыми. Стихар подризнои камка полосами, оплече и зарукавье камочка рудожелтая, подложено кинъдяком лимонной цвет, круживо подолное дороги полосатые, подложено дорогами алыми. Стихар дьяконской отлас белой, подержан, оплечье и зарукавье отлас золотнои по червчатои земле, подложен киндяком лимонной цвет, круживо подолное камочка мелкотравная, подложен киндяком червчатым. Стихар подризнои камка темновишнева чешуйчатая, оплече камка двоеличная, круживо подолное и зарукаве те же камки, подложен киндяком лазоревым, (л. 51 об.) Стихар подризнои дороги полосатые, оплечье и зарукавье дороги желтые, подложен крашениною лазоревой, круживо подолное дороги полосатые, полоски мелкие, подложено киндяком зеленым. Стихар дьяконъскои, участок отлас серебряной, травы золотные и шелковые, оплече и зарукавье бархат золотнои по червчатои земле, подложен крашениною лазоревою, круживо подолное дороги алые. И улар того же стихаря участковой, 6 кистей шелковых з золотом и с серебром и с варворки. Стихар дьяконской кумач вишневой, оплече и зарукавие бархателное, подложен крашениною лазоревою, (л. 52) круживо подолное камкосея полосатая. Стихар дьяконъскои камка червчата, оплече и зарукавие бархат по желтой земле, травы з золотом и с серебром, подложен зенденью лазоревою, круживо подолное камочка дымчата, подложено дорогами желтыми. Улар обяр серебряная, травы золотные, подпушен бархатом червчатым, 6 кистей шелки разные з золотом и серебром. Стихар подризнои подержан, камка зеленая мелкотравная, оплече и зарукавье и круживо подолное камка куфтералая. (л. 52 об.) Стихар дьяконской камка зеленая куфтер, оплече и зарукавие участок золотой с серебром по алой земле, круживо подолное камкосея полосатая, подложена камочкою гвоздичной цвет. Улар тое же зеленые камки, опушка камочка алая, 6 кистей шелк червчат з золотом. Стихар дьяконской отлас травчатой по белой земле, оплече и зарукаве бархат рытой по червчатои земле, круживо подолное камочка чешуйчатая. Улар бархат золотнои по чер- (л. 53) вчатои земле, кисти шелки разные. Стихар дьяконской камка белая, оплечье и зарукавие участок золотнои по красной земле, зарукавье камчишко червоточин-ное, круживо подолное камочка полосатая, подложен холстом. Улар обяр золотная, обложен киндяком, 6 кистей шелк червчат и зелен. Стихар обяриннои, ветх, оплече бархотелное по таусиннои земле, издержан в починку. Стихар дьяконской бархат зеленой, (л. 53 об.) оплече и зарукаве отлас золотънои по вишневой земле, подложен’
киндяком лимонной цвет, круживо подолное камочка белая, подложено дорогами полосатыми. Улар камка зеленая, опушка отлас лазорев, 6 кистей шелковых. Стихар подризнои дороги полосатые, оплече и зарукавье камочка голубая, подложен зенденью красною, круживо подолное тафта желтая, подложен выбойкою. Стихар дьяконской полотняной, оплечье и зарукавие бархатея цветная, (л. 54) Улар отласнои, кисти гарусные. Стихар дьяконской дороги белыя, оплече и зарукавие отлас червчат, круживо подолное камкасея полосатая, подложен крашениною. Улар камкасея полосатая, 6 кистей шелковых. 2 стихаря дьяконских полотняных, оплече у обеих бархат красной, ветх, зарукавие у одного того же бархату, а у другово камкосеиное. Улар у первого того же бархату, а у другово уларя камка белая. Стихар дьяконской бархат (л. 54 об.) багров, оплече и зарукаве и подолник отлас золотнои по зеленой земле, подложен крашениною зеленой. Улар того же бархату, опушен дорогами желтыми, подложен крашениною зеленой, а у него 6 кистей золото с шелки разными. Стихарь дьяконской камка зеленая, оплече и зарукавие и подолник камка лазорева, подложен крашениною лазоревою. Стихар дьяконской обяр лазорева, оплечье бывал бархат золотнои червчатои земле, зарукавие (л. 55) камочка цветная мелкотравная, подолник дорошки двоеличные, подложены кинъдяком багровым. А у него улар камка лазорева, подложен дороги червъчаты, а у него 6 кистей золото с шелки разными. Стихар дьяконской белое, полотно немецкое, оплечье и зарукавие отлас червчат, круживо подолное киндяк червчат, подложены крашениною лазоревою. А у него улар обярь золотная бывала, опушен кинъдяком ценинъным, подложен крашениною лазоревою, а у него 6 кистей (л. 55 об.) разных шелков. Да ветчаных стихарей. Стихар дьяконской мухояр багров, оплече и зарукавие камкасея мелкотравная по зеленой земле, круживо подолное крашенина кирпишнои цвет, подложен крашениною лазоревой. А у него улар камкасея полосатая, опушен крашениною алою, подложен крашениною ( зеленой. Стихар подризнои киндяк осиновой цвет, оплече и зарукавие дороги двоеличные, подолник киндяк зеленой. Стихар подризнои полотняной, оплече и зарукавие и подолник крашенина лазорева. 7 стиха-реи и подризников ветхих мухоярных и хол- (л. 56) щевых, облачатца в них нелзе, отложены заплаты и на починку ветхих риз и стихарей.
Улари. Два уларя камка кизылбашская по белой земле, опушка камка червчатая, подложены тафтою белой, по шти у них кистей золотой с разными шелки. Улар камка червчатая, опушен камкою белой, подложен тафтицои белой, а у него 6 кистей шелк червчат с серебром. Улар камка лазорева, опушен кутнею черной з белыми здвесками, подложен крашениной (л. 56 об.) зеленой, а у него 6 кистей нитяных. Улар ветх, бывал бархат цветной, опушен крашениною лазоревою, подложен той же крашениною, а у него 6 кистей нитяных. Улар изуфрь черной, опушен крашениною зеленою, подложен крашениною лазоревой, а у него 6 кистей разных шелков.
Патрахели. Патрахел бархат черной шит золотом и серебром, (л. 57) а на ней 2 круга шиты золотом и серебром, ердан камка зеленая, опушена той же камкою, а на ней 23 пугвицы серебряных полых,
13 кистей разных шелков з золотом. Патрахел бархат черн, шито золотом и серебром копытчатым, ердан камка червъчата, опушка той же камки, а на ней 34 пугвицы серебряные позолочены угольчатые,
14 кистей разных шелков з золотом, (л. 57 об.) Патрахел шита золотом и серебром по червчатому бархату, ердан камка желтая, на ней 13 пугвиц серебряных гладких, 12 кистей золото с розными шелки. Патрахел участок золотой серебром по червчатои земле, ердан камка лазорева, опушка обяр золотная, а на ней 33 пугвицы серебряных, 13 кистей разные шелки з золотом. Патрахель червчати пелчаты, (л. 58) ердан камочка желтая, ветха, на ней 21 пугвица серебряных, 8 кистей разных шелков. Патрахел келейная малая обяр золотная с травами разных шелков, на ней 23 пуговицы серебряных воляшных позолочены, около ея круживо серебряное, ткано в крушки, 11 кистей разных шелков з золотом. Патрахел участок золотнои по желтой земле, ердан камка лазорева, опушена камою (л. 58 об.) зеленой, на ней дватцат полпяты пугвицы серебряных, 13 кистей разных шелков з золотом. Патрахел бархат рытой по белой земле травчатой, ердан и опушка бархат черной, а на ней 15 пугвиц серебряных, а 3 в них по полупугвице, на гоитане 9 кистей золото и серебро с разными шелки. 6 патрахелеи камчатых, коришнои цвет, поеных, ветхи, а на них пугвицы медные (л.59) и оловяные, кисти разные цветы, зеленой и красной. 3 патрахели барха-телные по черной земле травчатые, пугвицы оловяные. Патрахел камка зеленая, ердан камочка травчатая по таусиннои земле, пугвицы оловяные, 8 кистей разных шелков. Патрахел гораздо ветха, бывал отлас золотнои по червчатои земле, на нем 15 пугвиц серебряных, 6 кистей разных шелков. 3 патрахели бархателные (л. 59 об.) по желтой земле, опушены крашениною зеленою, на всех пугвицы оловяные,кисти шелков разных. Патрахел ветха, бывала камкасея желтая, а на ней 13 пугвиц серебряных неболших, 7 кистей разных шелков. Поручи бархат червчат пелчат, опушка камка кизылбашская, пугвицы медные и оловяные. Поручи бархат желт, ветх, пугвицы медные, травы по них шиты золотом и серебром (л.60) волоченым. Поручи отлас золотнои по червчатои земле, пугвицы медные. Поручи бархат червчат, опушка бархат черной рытой, а на них 10 пугвиц серебряных. Поручи кушашъчатые обяр з золотом, опушка отлас зелен, на них 10 пугвиц серебряных. Поручи обяр з золотом, ветхи, земля белая, опушка отлас вишневой, пугвицы медные. Двои поручи обяр цветной [с] золотом, ветхи, опушка камчатая, пугвицы медные. Поручи бархат червчат, (л. 60 об.) пугвицы медные. Поручи бархат таусиннои, шито по нем золотом, опушка камка зеленая, пугвиц медных 40. Поручи бархат таусиннои, опушка камка червчата, 40 пугвиц медных. Двои поручи бархат зеленой гладкой, опушка камка
зеленая, у однех 13 пугвиц медных, а у других 30 пугвиц оловяных. (л. 61) Двои поручи, бывал бархат золотнои по червчатои земле, на однех пугвицы медные, а на других оловяные. Поручи отлас таусиннои, опушка камка лазорева, пугвицы медные. Двои поручи бархателные по желтой земле, опушены крашениною.
Поясы служебные. Пояс золотнои, ткан в крушки по зеленой земле, пряжа и запряжник серебряные, 6 кистей золотом и серебром и с шелки (л. 61 об.) разными, на кистях варворки золотные. Пояс шелк червчат по белой земле с крестами, пряжа и запряжник серебряные, а у него 6 кистей шелк белой с красным, на кистях варворки золотные. Пояс шелк червчат с лазоревым, пряжа и запряжник серебряные, а у него 4 кисти шелк червчат с лазоревым, на кистях варворки золотные. Пояс шелк червчат белой с лазоревым, пряжа и запряжник медные, (л. 62) кисти шелк червчат з золотом, варворки обшивано серебром. Пояс шелк желтой с лазоревым, пряжа железная, кисти того же шелку, а на кистях варворки золотные. Пояс шелк черной с лазоревым, пряжа и запряжник серебряной, кисти того же шелку, а на кистях варворки серебряные.
Покровы. 3 покровы участок серебряной з золотом, опушены камкою червчатою, подложены тафтою зеленою, (л. 62 об.) 3 покрова участок серебрян з золотом, опушены тафтою двеличною, подложены* крашениною лазоревою. Сулок лазорев, тафта немецкая, наконешник шит по отласу червчатому золотом и серебром, дачи боярина князя Юрья Андреивича Ситсково. Сулок тафта зелёная, ветх, наконешник участок золотнои, ветх, накишен был серебром и шелком. Сулок ветх, бавала тафта двоеличная зеленой шелк з жёлтым, обложен кругом антабас золотнои (л. 63) накищен, шелк червчат. 3 покрова обярь золотная, ветхи, опушка камка лазорева, подложены кинъдяком зеленым. 2 покрова постные, один средина камка лазорева, опушка камочка лимонной цвет, а другой камка лазорева, опушка тафта виницеиская гвоздичной цвет. Покров над гробом чюдотворца Корнили обяр черная полосатая з золотом, а на нем крест участок серебряной, (л. 63 об.) Покров сосуд-нои, средина камка лазорева куфтер, поля камка лимонной цвет, крест на ней тое же камки лимонные, подложены полотном немецким. Покров новой болшои, средина камка лазорева куфтер, крест кромка дорогиль-ная, опушка лимонной цвет, подложен полотном немецким. Покровецна суды новой, средина камочка мелкотравная вишнева, крест белой миткалинънои, опушка камкосея червчатая, подложен (л. 64) зенденью зеленой. Покровец новой, средина участок серебрян з золотом, крест черной маленкои, опушен камкою рудожелтою, на уголках камка зеленая, подложен крашениною зеленою.
Плащаницы. Плащаница болшая, а на ней образ тела Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа Положение во гроб с херувими и со апостолы, опушка обяр золотная. Две плащаницы малые, у обеих
*3аписано дважды: подложены.
средина дороги червчаты; на одной образ Агнец Божий, (л. 64 об.) на дискосе по углом 4 херувими; на другой образ Распятие Христово; обое подложены дорогами двоеличными. Плащаница малая, на ней образ великомученицы Парасковеи, наризаемыя Пятницы, венец шит золотом, а по краям слова шиты двемя щелки желтым да черным.
Пелены. Пелена престолная прикладная, средина отлас червчат отлас белой*, кругом кутня двоеличная, подложена зенденю кирпичной цвет. Пелена подивангелская, ветха, (л. 65) средина бывал бархат золотнои по червчатои земле, крест белой полотняной, обложена камкою соломянкою, подложена крашениною лазоревою. Пелена подивангелская средина шиты травы по камке таусиннои разными шелки и золотом; крест белой миткалиннои, обложена отласом червчатым, подложена крашениною зеленою. Пелена подивангелская, средина отлас золотнои, крест тафта рудожелтая, обложена тафтою выницеис-кою зеленой, (л. 65 об.) подложены крашениною зеленою.
На престоле воздух, средина сшиваны различных цветов клинъцами отласные и камчатые, крест белой миткалиннои, обложен кругом отлас светлозелен, подложен крашениною лазоревою. Да в соборной церкви Введения Пречистыя Богородицы у местных образов Троицы Живона-чалные пелена бархат червчат, средина участок серебрян, крест тафта двоеличная. (л. 66) У Пречистыя Богородицы пелена бархат золотнои по червчатои земле, крест тафта двоеличная. УСпасоваобразова(!) пелена бархатея цветная, средина участок серебрян, крест бархатной. На левой стороне царьских дверей у образа Пречистыя Богородицы Одегитрия пелена бархат червчат, средина участок серебрян, крест тафта двоеличная. У образа Похвалы Пречистыя Богородицы пелена бархателная, средина бархат золотнои по алой земле, крест тафта двоеличная.
Ширинки. Три ширинки тафтяных, 2 шиты (л. 66 об.) золотом и серебром, а у третие вшито круживо серебряное, накищена золотом. А у тех у дву ширинок у одное кисти шелк червчат з золотом, а у другие кисти один шелк червчат. 8 ширинок полотняных и безинных, шиты золотом и серебром, а накищены черным шелком. 20 ширинок полотняных шиты золотом и серебром, а накищены все червчатым шелком, одна в том числе накищена золотом с лазоревым шелком, (л. 67) Полотенце миткалинное шит золотом и серебром и черным шелком, а накищено золотом и черным шелком. 3 полотенца, а на них шиты слова золотом и серебром и шелки разными. 3 полотенца, 2 кисейные, третье полотенце шиты черным шелком. Полотенъцо шито шелки разными з золотом, накищено шелком червчатым. 2 полотенца шиты шелки разными. 4 полотенца бизинные, одно шито золотом и серебром и разными шелки, а 3 шиты различными** (л. 67 об.) шелки, на одном шит крест и круг иво слова шелком шиты.
* Записано два раза: отлас белой.
** Вновь на следующей странице: различными.
Фаты. Две фаты нерозрезаны темносиние, затычки и концы полосатые. Фата пестрая лазорева. Фата полосы поперешные белые да лазоревы бумазейная. В ризнице ковер болшои разной цвет. Да в ризнице же звезда серебряная, травы по ней резаны, позолочена. Двои сосуды служебные оловяные, ветхи. Да налои, передняя стенка по дереву резана, травы позолочены золотом сусалным, а 3 стенки (л. 68) писаны красками.
Колоколница.
У трапезы надлесницею колоколница каменная, верх шатров, крест на ней железной. А к ней приделана другая каменная колоколница, менши тое, верх шатровой же, крест на ней древянои, обоян железом белым. А на той пределнои колоколнице колокол болшои благовестнои очапнои, весу в нем 108 пуд с четвертью. Да на другой болшои колоколнице колокол болшои благовестнои (л. 68 об.) очапнои повсяд-невнои, край у него выломлен, весу в нем 82 пуда с четвертью. Да на той же колоколнице 2 колокола по 30 пуд да 10 колоколов красных и зазвонных и перечастных. На той же колоколнице часы боивыя с перечасием, часы приведены к болшому повсядневному колоколу, а перечасье приведено к двема красным колоколам.
Да под приделною колоколницею полатка каменная книгохранител-ная, а в ней книги, (л. 69) Ивангелие напрестолное писмяное в десть опракос, оболочено бывало камкою лимонный цвет, обложена верхная доска серебряным басмленым золочены; ивангелисты воляшные серебряные золочены, застешки и спни серебряные ж золочены. Ивангилие напрестолное, печат московская, в десть, оболочено бархатеею цветною, ивангелисты медные. Ивангелие напрестолное, печать московская, в десть, оболочено было бархатом зелёным, без иванъгилистов. Ивангилие напрестолное писмяное, (л. 69 об.) в десть, оболочено бархатеею цветною, ивангилисты медные. Евангилие напрестолное, в десть, оболочено бархатеею, бывала цветная, ивангилисты медные. 5 Ивангилиев напрестолных писмяных, в десть, без ивангилистов. Ивангелие в полдесть, писмяное, оболочено бархатом золотным по червчатои земле без ива- (л. 70) нгилистов, застешки медные. Ивангелие напрестолное писмяное, в полдесть, оболочено камкою лазоревою, застешки и спни и прибол серебряные, без ивангелистов. 5 Ивангелиев напрестолных писмяные, в полдесть, без ивангелистов, ветхи.
Ивангилия толковыя. Два Евангилия воскресные толковые, в десть, печать московская, одно воскрестнои в коже, а другое в черной коже. (л. 70 об.) Ивангилие толковое воскрестное писмяное, в десть, в красной коже, с потальями. Ивангилие толковое повсядневное, печать московская, в коже красной, Лука да Иван. Ивангилие толковое повсядневъное, печать московская, в десть, 2 ивангилиста Матфеи да Марко. Ивангелие толковое писмяное, в десть, Лука да Марко. Евангилие повсядневное толковое, (л. 71) писмяное, в десть, 2 ивангилиста Иван да Матфеи;
обе книги в черных кожах. Два Ивангилия в полдесть, толковые, писмя-ные, повсядневныя; все 4 ивангилисты, обе книги в затылок.
Апостолы. 3 книги Апостолы в десть, печат московская, все тетры, в красных кожах. 2 книги Апостолы писмяные, тетры, в десть. Апостол в десть, печат московская, тетр в черной коже. (л. 71 об.) 2 книги Апостолы в полдесть, писмяные; один в крансои коже, а другой в черной коже, в затылок, ветх. Книга Апостол толковой, писмянои, в десть, в коже.
Два Устава, печат московская, в десть; оба в красных кожах; вышли ис печати при патриархе Филарете. 2 Устава, печат московская, в десть, в красных кожах, которые вышли ис печати при патриархе Иасафе. Книга Устав писмянои, в десть, (л. 72) в черной коже, ветх. Две книги Полуставе, в полдесть, писмяные; одна в красной коже, а другая в черной коже; ветхи. Книга Устав, толста, в полдесть, писмяная, бывала в красной коже.
Псалтыри. Псалтыр в полдесть следованием, писмяная, писмо чю-дотворца Корнилия, з жуки. 7 Псалтырей в десть следованием, печать московская, (л. 72 об.)Псалтыр в десть следованием, писмяная в коже, застежки и спни, прибои серебряные золочены. 2 Псалтыри следованием, писмяные, в десть; обе в черной коже; одна ветха. 19 псалтыри писмяных, в полдесть, следованием, в кожах; и в том числе 11 Псалтырей ветхи, а иные в том числе и в затылок. 3 Псалтыри следованием, писмяные, в четверть; 2 ветхи, атретяя бывала подета бархатом (л. 73) червчатым. 3 Псалтыри псалмы Давыдовы, в десть, печать московская, болшие слова; 2 в черной коже, а третяя в красной коже. 2 Псалтыри псалмы Давыдовы, писмяные, в десть, ветхи. 5 Псалтырей псалмы Давыдовы, печат московская, в полдесть; одна гораздо ветха. Псалтыр псалмы Давыдовы, в полдесть, печать киивская. 8 Псалтырей писмяных в полдесть, (л. 73 об.) псалмы, а в том числе 5 Псалтырей в затылок, ветх. 4 Псалтыри в четверть, пъсалмы Давыдовы, ветхи, писмяны. 2 Псалтыри толковые, писмяные, в полдесть, в затылок.
Часословы. Два Часослова в десть, печать московская; оба в красных кожах. 5 Часослов, пис[мя]ные, в полдесть, (л. 74) а в том числе 3 в затылок, гораздо ветхи. 4 Часослова в четверть, писмяные, в затылок, ветхи. 3 Часовники, печат московская, в четверть; один з жуками, а 2 ветхи.
Охтаи. Пять книг Охтаев, печать московская, в десть, а в них по 4 гласы; и в том числе 2 новы. Книга Охтаи, в полдесть, писмянои, в затылок, 4 гласа с пятаго гласа. 2 книги Шестоднева, (л. 74 об.) печат московская, в десть, в кожах красных. Книга Шестоднев, в десть, печат московская, в красной коже.
Соборники. Книга Соборник, печат московская, в десть, в красной :коже, цветной и постной. 12 книгСоборников писмяные, в полдесть, все в затылок, ветхи.
Книга чюдотворца Николы Житие, в полдесть, печат московская,
в красной коже. 9 книгСоборников, писмяные, в полдесть, а в них писаны жития (л. 75) и службы святых и преподобнах отец. Книга писмяная, в четверть, в затылок, а в ней писано Предание чюдотворца Корнилия. 5 Соборников писмяные, переплетены, в коже; 4 в полдесть, а пятой в четверть. Книга Соборник писмянои, в четверть, в коже, завяска ременная. Да книжица писмяная, в четверть, Послание иноческое, в затылок.
Прологи. Два Пролога во вес год, переплетены, (л. 75 об.) в четырех книгах, печат московская, в десть, в красных кожах. 4 Прологи писмяные;
один в десть, а 3 в затылок, в полдесть. 2 книги Минеи общие, печат московская, в десть, в красных кожах. Да двои Минеи месечные два надесятные во вес год; 24 книги, печат московская, все в десть, и в том числе Минея месяц декабрь, в полдесть. 2 книги Минеи же ме[сяч]ных, апрель да май, печать московская, в десть; все в красных кожах. 12 Минеи месечных, (л. 76) в полдесть, писмяные, в затылок, все ветхи. Книга Трефолои во вес год, переплетен в четырех книгах, печать московская, в десть. 2 книги Трефолои писмяны, в полдесть, в затылок. 2 книги Треоди постные, в десть, печат московская. Книга в полдесть пол Треоди постныя, в затылок, писмяная. 2 Треоди цветные, в десть, печат московская;* на исподних досках у обеих книг жуки медные. Треод цветная писмяная, в десть, в затылок. Пол Треоди цветные, в полдесть, писмянои, (л. 76 об.) в затылок, в коже, з жуками.
Ефремы. Три книги Ефрема Сирина в десть, печат московская; 2 со аввою Дорофеем, а третей без аввы Дорофея; все в красных ножах. 2 книги Ефрема Сирина, обе писмяные; одна в десть, а другая в полдесть, обе в затылок. 2 книги Лествицы в десть, печать московская, в красных кожах. 4 книги Лествицы, писмяные; одна в десть, в затылок, а 3 в полдесть, в кожах. Книга Исака Сирина с Опокалепсисом, (л. 77) писмяная, в десть. 4 книги Исака Сирина, писмяные, в полдесть; одна в коже, а 3 в затылок. Книга Григория Богослова, да книга Ивана Богослова, да книга Василия Великого; все 3 книги писмяные, в десть, в затылок, з жуками. Книга Деонисия Ареопагита, писмяная, в десть, в затылок. Книга Правил святых апостол и святых отец и Кормчая та же, – в десть, печать московская, в красной коже, с поталями. 2 книги Правила же святых отец, (л. 77 об.) писмяные, в десть, в затылок; а на одной книге жуки медные. Книга Правила никоновские, в десть, писмяная, в красной коже. 2 книги Правила Никоновские же, писмяные, в десть, обе в затылок;одна з жуки. 2 книги Бытии, писмяные, в затылок, в десть. 2 книги Беседы ивангилския, писмяные, в десть, в затылок. Книга Беседы апостольские, в десть, печать киивская, мелкие слова, в красной коже. 2 книги Патерика; один скитской, а другой печерскои, в полдесть, писмя-(л. 78) ные, в затылок. 2 книги Маргариты, в десть, печат московская, в красной коже. Книга Маргарит, писмяная, в десть, в затылок.
* Окончание слова записано 2 раза: всякая.
Служебники. Пять книг Служебников, печат московская, в полдесть, в красных кожах. 2 книги Служебников в полдесть, в тетратех, печат московская, новаго выходу. Да 7 книг Служебников, писмяных, в полдесть; а 3 в них в затылок. Да 3 Служебники неполных, писмяных, в четверть, в затылок. 5 книг Потребников, печат московская, в десть;
4 иноческих, пятой мирской, (л. 78 об.) 4 книги Потребники, в четверть, писмяные; один в красной коже, а 3 в затылок. Потребник печат московская, в полдесть, переплетена в 2 книги, обе в красных кожах. Книга Исус Наввин, в полдесть, писмяная, в затылок. Книга Исус Сирахов, в полдесть, печат киивская, в коже, завяски ременные. 2 книги Иасафа царевича, да книга Варлама Пустынника; все 3 книги писмяные, в полдесть, в затылок. 2 книги Петра Дамаскина; 2 книги Григория Беседовника; книга Семиона новаго богослова; книга Григория Ами-ритцъкого; (л. 79) книга Апокалепсис; да 2 книги .Зерцала — все 9 книг писмяные, в полдесть, в затылок, а Опоколепсис в четверть. Книга Лимонис, печат киивская, в полдесть, в красной коже. Книга Василеи Амиситцкии писмянои, в полдесть, в затылок. 3 книги Иванна Дамаскина писмяные, в полдесть, в затылок; в том же числе в одной книге и Буква. 2 книги Цветки; одна в полдесть, а другая в четверть, обе в затылок, писмяные. Книга Новый Завет, в четверть, печат киивская, мелкие слова, в черной коже; а в ней в начале Псалтыр; да в ней же Ивангилие и Апостол. 3 книги летописцы писмяные; одна в четверть, а на обеих сторонах жуки; а 2 в полдесть, в затылок.
(л. 79 об.) Канунники. 12 книг Канунников, писмяные, в полдесть;
9 в затылок, а 3 в досках. Канунник писмянои, в полдесть, переплетен, в коже, ветх. Да 8 Канунников, все писмяные, в четверть, в кожах;
3 в досках, четвертой в затылок.жфех; все ветхи.
Да в соборной церкви и у чюдотворца Корнилия Канунников: Канунник печат московская, в белой коже, в полдесть. Да 5 Канунников писмяные, в кожах, в полдесть. Книга Иванна Златаустого писмяная, в полдесть, в затылок, а в ней писан кануны толковые. 3 книги Стихарали, Ирмолои, знаменные, (л. 80) в полдесть в затылок. 5 книг Ирмолоев и Обиходников, в четверть, знаменые; у всех застешки медные. 8 книг Ирмолоев и Обиходников знаменные, в четверть, в затылок.
В монастырьскои казенной службе Божия милосердия в каменной келье 3 пядницы: Спасов образ, Пречистыя Богородицы, Иванна Предтечи в киоте на краске, а киот писан красками. Перед келею в сенех в киоте деисус образ Спасов да образ Пречистыя Богородицы, Иванна Предтечи. Да в другом киоте образ Пречистыя Богородицы Одегитрия.
(л. 80 об.) Да в казне же государевых жаловалных грамот и всяких вотчинных крепостей. Грамота ставленая чюдотворца Корнилия. Грамота свидетелствованная чюдотворца Корнилия. Грамота государева жа-ловалная тарханная на Корнилиивскую монастырьскую вотчину великого князя Василия Ивановича всеа Русии, пожаловал чюдотворца Корнилия
при его животе лета 7040-го году, печат государева красная, вислая. Подписана при государе царе и великом князе Иване Василивиче всеа Русии трижды; у первые подпис дьяк Федор Мишурин, (л. 81) у другие подписдьяк Яков Щелкалов, утретие потписдьяк Юрьи Сидоров; да при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии потпис дьяка Андрея Арцыбашева; да при государе царе Борисе подписана подпис дьяка Василя Нелюбова; да при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии дьяк Семен Бредихин.
Да грамота государева с тое же грамоты переписана при государе царе и великом князе Василие Ивановиче всеа Русии во 114-м году;
припис дьяка Василя Нелюбова. Да та же грамота подписана во 123-м году (л. 81 об.) при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Богьдана Тимофеива, за красною за вислою печатю.
Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильивича всеа Русии на рыбную ловлю на 4 выти Оназимского истоку, писана лета 7078-го, подписана лета 7092-го при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии, припис дьяка Андрея Арцыбашева.
Две грамоты жаловалные, одна государя царя и великого князя Василя Ивановича всеа Русии, а другая царя Бориса, писана во 107-м году на 4 (л. 82) выти озерка Аназимского из дву неводов; оброку не давать; переписана старые грамоты во 114-м году и во 123-м году;
подписана на государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя, за красною за визлою печатю; припис дьяка Богдана Тимофеива; да во 137-м году подписана на государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии; припис дьяка Семена
Бредихина.
Государева жаловалная грамота на Вологду к таможником, велено имать по 5 рублев на рыбу; писана лета 7037 году; подписана лета 7042-го году при государе царе и великом князе Иване Васильивиче всеа Русии; припис дьяка Федора Мишурина лета 7059-го; подписана при царе Иване; (л. 82 об.) припис дьяка Юрья Сидорова, печать государева красная вислая.
Грамота жаловалная государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на Коптеву пустыню, писана лета 7094 -го; припис дьяка Якова Витовтова 107 году; подписана при царе Борисе, дьяк Василеи Нелюбов, печат черная, орел.
На Коптево же 3 грамоты государевы да грамота митрополя, да 3 крепости, да книги межевалные за руками князь Афонася Вяземского.
Государева грамота на пустоши Балуивские, писана лета 7078-го;
дьяк Никита Титов сын Родионов.
Грамота государева жаловалная на монастырьские пожни ис Коню-
царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя; припись дьяка Семена Бредихина. Да книги пометочные, сколко монастырьских пожен на реках на Вологде и на Сухоне и на Леже и в озерках. И на все те пожни крепости; против тех пометочных книг даные и купчие сполна. Три утерялис; одна на пожню Долгушу, а 2 на пожню Ондрюши Бирцов-ского во 147-м году при казначее старце Ионе. Да на езы 20 крепостей.
Государева жаловалная грамота на Персову пустыню, писана 7096 году; подписана 108-го при царе Борисе; припис дьяка Смирного Василива; печать красная вислая. Память приписная по государево грамоте (л. 83 об.) от воевод с Вологды; писана во 122-м году. Да челобитная Персовы пусты[ни] за братцкими и за крестьянскими руками на Персову ж. Была розезжая, розезживал межи подячеи Нечаи Букин, и во 144-м году при казначее старце Исаие Селеткове утерялас.
Три розезжих и межевалных Корнилиива монастыря с Павловым монастырем и от Комелские и от Обнорския волости. По государеву указу розезжал вологоцкои городовой приказщик Иев Григорив сын Володимерова лета 7141-го, и припис его.
Грамота государева жаловалная, дано лесу на 2 версты, писана лета 7039-го, печат государева красная вислая, подписана 7042-го году при государе царе и великом князе Иване Васильивиче всеа Русии; (л. 84) припис дьяка Федора Мишурина.
Государева грамота жаловалная торговат солью беспошлинно, писана 7090, подписана лета 7093 при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии, припис дьяка Дружины Петелина, и во 137-м году подписана при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Семена Бредихина.
Государева жаловалная грамота на деревню Комарове с мелницею, писана лета 7101 -го году, печать орел.
Да грамота же оброчных денгах и выпис, что взяли на оброк владеть. Да 3 крепости да книги межевалные за руками (л. 84 об.) лета 7037 году. По государеву указу писец Семен Коробьин посылал сына боярского Тараса Ушакова, и розезжая за руками Сотная на монастырьскую вотчину писца Тимофея Андреивича Карамышева, писана лета 7052-го, припис Никиты Козлова Милославского.
Две грамоты жаловалные мостовые; одна писана лета 7105-го году, а другая писана 107-го, припис дьяка Василя Нелюбова, подписаны при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Семена Бредихина.
Две грамоты на Грезивицкои (л. 85) торжек; одна писана 106-го году, за приписю дьяка Василя Нелюбова; а другая писана во 107-м году, за приписю диака Василя Нелюбова.
Грамота жаловалная государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии не судити архиепископу, переписана с старые грамоты лета 7122-го, припис диака Ивана Болотникова, печат государева красная вислая.
На село Погорелое и на Мошенкино з деревнями даных и духовных и закладных и купчих 41 крепость. Да 2 выписи с книг Петра Олябива да подячего Григорья (л. 85 об.) Софонова да грамота о ямчюжном деле.
Грамота государева жаловалная тарханная государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на монастырьскую вотчину и на Грезивицкои торжек эбирати пошлины на воск и на ладан; переписана старых государевых жаловалных тарханьных грамот во 129-м году;
припис дьяка Семена Головина за красною государевою за вислою печатю.
Да грамота ж жаловалная тарханная болшая государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на все монастырьские вотчины и на всякие угодя, писана во 137, за красною за вислою печатю. (л. 86) И с нея список за приписю диака Семена Бредихина.
Грамота государева на Романов о данных денгах, писана лета 7063-го.
Государева жаловалная грамота платити всякие доходы по князь Богьданову дозору Косаткина, писана во 126-м году, за приписью дьяка Василья Семенова.
Две сотные да выпис на монастырьские вотчины Вологоцкого уезду;
одна сотная да выпис писма Федора Измайлова да подячего Михаила Бухарова 133 году, а другая сотная Семена Коробина да подячего Федора Стогова 140-го году. Да сотная на Пошехонскую вотчину (л. 86 об.) писца Юрья Редрикова.
Две даные да 2 купчие на вологоцкои загородной двор, да даная на осадной двор за воивоцкою печатю и за дячьею рукою. Государева грамота на Вологду к воиводам, что не ставити стоялщиков на вологоц-ком на осадном дворе, писана во 124-м году, за приписю дьяка Василья Семенова. Две розезжие да 2 записи да даная Данила Шипунова за иво рукою.
Список з дозорных книг Семена Сытина да подячего Леонтья Софонова на Пошехонскую вотчину (л. 87) не за руками. Да книги дозорные же Лариона Трусова на Пошехонскую вотчину не за руками, и с книг список.
Отпис Суринские боярони Токмачева на крестьянина на Васку в разбойном деле в ухтомских крепостях. Да запись мировая Данила Куделина да отпис Воина Шипунова в рухляди и в лошадех. Да записи поручные крестьянские многих лет и ссудные, порядные, отпис немчина Аньдрея Бука в колоколних денгах. Две грамоты служних указных, 4 записи на монастырьских служебников (л. 87 об.) на Ивана Болотова да на Панку Копыла да на Терешку Ветошкина да на Ефимка Филипива. Запис на Никиту Елбузина з зарядом во крестьянине. Отпис да запис в рухляди старца Корнилия Скобятина, иво рука. Отпис князь Михаила Шелешпалского да иво же 2 грамотки посыпные. Да 2 грамотки Ивана Кондырева в лошадех, иво рука вместо отписи. Да запис Дементья Мордвинова з Гаврилком Камешниковским. И список с отписи Ивана
Зюзина. 7 записей Ивана Наполского на пустошь Малыгино, за иво рукою, (л. 88) 2 отписи в запросных денгах, что платили зборщику Ивану Конъдыреву 127 году, а другая, что платили на Москве за служилых людей в прошлом во 140-м году. 2 памяти отказных к мостовщиком. Книги вкладные, что христолюбцы по своей вере дают вкладу. Да книги приходные и росходные денежные со 131-го году да по нынешней по 166-и год. 18 памятей отписных казеных. Книги переписные Посника Павликова за иво рукою. Выпис с поженных книг Булата Телицына да Ивана Соколова, да про пожни сыск стремянного (л. 88 об.) конюха Лва Шишкина за их руками. Да отпис Кирила Веляминова. 4 кабалы учебные на Малафеика Невеиницына да на Исачка Кирилова да на Савку Трофимова да на Якунку Ортемива. Приговор на служек и на служебников монастырьских, что имать с них пошлин с рубля по гривне. 2 записи на Богдана Брянчанинова в пустошах Галкине да в Кокушкине. 2 отписи пошехонца Михаила Бобоедова. Отпис в денгах, что взято на Москве в прошлом во 140-м году за даточных людей четыреста (л. 89) семьдесят семь рублев 10 денег. 2 отписи московские да отпись вологоцкая в денгах и в хлебе 140и141и142 году. Запис и роспис и отпис на игумена Маркела, что в прошлом во 144 году; в росписи написана была на него же игумена Маркела кабала в двусот рублех, и та кабала во 145-м году ис казны вынята украдом. Судная запис на крестьян деревни Старого Дворца на корелян. Даная да 2 купчие вологоцкого архиепископа на крестьянина на посацкого человека на Ортемья Пота-(л. 89 об.) пова сына щепетилника внутре города на Трубе на дворовое место за рукою отца иво духовнаго ассоновского попа Прохора. Даная князь Ивана Тимофеивича Ухтомского на пустошь Тимово за иво рукою.
Государевы 2 грамоты, что платит стрелецкие запасы на Москве с подмонастырские и с пошехонские вотчины, у обеих печати черные, орел; припис дьяка Ивана Нестерова. Отпис в денгах, что по государеву указу плачено на Москве в приказе Болшаго Дворца в иво государеву казну 120 рублев за монастырьских (л. 90) служек за 6 человек, которым было быть на иво государево службе в Яблонной.
Государева грамота прислан черкашенин Юрка Василив сын Козлов-скои. Розезжая и межевалная на всю монастырьскую вотчину от Комел-ские и от Обнорские волости; по государеву указу и по наказу государева писца Семена Гавриловича Коробина, розезжал вологоцкои помещик Афонасеи Шаров лета 7137-го.
Государева грамота, что из Белого села в пошехонскую вотчину сыщиком и губным старостам и целовалником, кроме поличного въезжать не велено, печать черная, орел.
(л. 90 об.) Государева грамота с пошехонские вотчины ямские денги по новым писцовым книгам Юрья Редрикова платит на Москве, печат черная, орел; припис дьяка Микифора Демидова. 2 отписи московские в денгах, что во 154-м году по государеву указу плачено за 19 человек
служек монастырьских, которым было быти на иво государево службе, 394 рубли 2 алтына 2 денги.
Купчая с Павловым монастырем вместе на монастырьскои московской двор за Белым городом за Стрелечьи вороты в Печатной слободе. (л. 91) 4 отпускные князь Василья Шелешпанского да Бориса Кирилова сына Брянчениновада немчина Матфея Дерестолпада Василья Пляцко-ва во крестьянех. Да 2 отписи в прихожих мужиках Хай мурзы Кутумова. 2 записи на монастырского беглово бобыля на Мишку Подкеларникова в том, что живучи ему на Москве давати в монастырскую казну оброк. Запис мировая со князем Дмитреевым крестьяны Лвова села Тересива и деревен. Запис мировая прилуцкого келаря в ыску во штисот (л. 91 об.) во штидесят в трех рублех с полтиною да в девятинатцати безвестных головах.
Да грамота правая. Грамота князь Дмитрея Петровича Лвова, в отписи место в животах князь Василья Филипова сына Лвова.
Даная вологоцкого посацкого человека Семена Курочкина на 4 анбары на Вологде в Сыреином ряду. Запис на сына боярского Аксена Киреива в пустоши Воронове. Запис боярина Глеба Ивановича Морозова на крестьянина Первушку рыбника в езу Простном.
Отпис вологоцкого архиепископа (л. 92) Маркела в денгах, что взял с пустын с Персовы да с Коптевы.
Список з дозорных книг Ивана Ивановича Буторлина да подячево Ярофея Иванова на подмонастырьнею вотчину 155-го году. Список з дозорных книг Ивана Веляминова на пошехонскую вотчину 155-го году. 7 записей мостовых, что мостити мосты по болшои дороге за волостным. Отпис даточным с Тулы и изАдуива. Кабала да запис Василя Погорелского. Да туго ж запис по Сидорке Коптевском. 3 грамотки (л. 92 об.) да роспис Ивана Брянченинова в животах иво. Отпис боярина князя Юрья Алексеивича Долгорукове во крестьянех в Ондрюшке да в Васке з братьею Милюковых детей Шутова и в их крестьянских животах.
2 отписи Афонася Нарбекова; одна во крестьянех, а другая во владение. Запис князя Дмитрея Петровича Лвова в Табае да отпис иво Табаева в животах иво. Отпис Володимера Ляпунова в попе Федоре и в жене иво и в детях и в животах. Отпис Обнорских ямщиков старосты (л. 93) Ивана Углуна да Козмы Брызгалова с товарыщи в мужике Трошке Потихине.
3 отписи, что плачено на Москве в Пушкарской приказ за корелян за Сидорка Козмина с товарыщи 109 рублев 30 алтын 2 денги. Отпускная Степана Андреява сына Мызникова на крестьянина на Самылка Окулова. Отпис Афонасивского монастыря игумена Аврамия з братьею в денгах, что доправлены на старце Андреане Панкине 30 рублев денег и отданы им в монастырскую казну. Отпис Марка Рожнева в девке Зиновке. (л. 93 об.) Отпис Александра Нащокина во крестьянине Еремке Анофри-иве, ис книг выписка туго ж.
Кабала верчая да 2 записки во сте в тритцати рублех на Бориса
Василива сына Брянченинова на пустош Рудин Починок. Кабала верчая во сте рублех да запис на Михаила Кудеярова сына Беседного на пустошь Дор Инятин. 2 отписи вологоцкого архиепископа Маркела; одна во крестьянине Еуфимке кузнеце, а другая в животах Паршуткида Стенки Ортемивых деревни Орефина. Отпис старца Игнатия плотника (л. 94) в рухляди ево, что к нему по грамоте великого государя святеишаго Никона патриарха московского и всеа Великия и Малыя и Белыя Росии грамоте послана к нему к Москве. Отпис Андрея Никитина сына Елбузина во крестьянине Анисимке Петрове сыне Нечаиве.
Рухлядь. Ладану полтора пуда; воску пуд 10 гривенок; меду 9 гривенок; бархату черного 4 аршина без чети; полотна астрадамского 16 аршин; (л. 94 об.) портище отлас золотнои по червчатои земле;
участку отласу золотного 2 аршина без чети по червчатои земле; камки цветные мелкотравные 8 аршин, камки ж цветные клеанки 8 аршин, дороги червчатые 8 аршин; дороги ж двоеличные 8 аршин; бархатели .цветные 2 аршина; 2 киндяка червчатых да киндяк осиновой цвет 8 аршин, тафта серебряной цвет 8 аршин; камки цветные 2 аршина; шелк .в ней вишнев да зелен, (л. 95) остаток дорогов черных 2 аршина; 2 печати серебряные казенные; стопа серебряная золочена, 33 золотых, 8 ефимок серебряных, ковш серебряной белой, серебра ломаного фунт, серебра кованого 23 золотника, да лапки серебряные женские, на них по тринатцати жемчюжъков середних, камешки на них плохие.
Да служилые рухляди: 17 карабинов, 5 в них карабинов в олстреах, 6 пищалей, 8 сабел, 3 палаша, 2 саадачишка да колчюженцо, (л. 95 об.) 3 шеломишка да шишачишко да латишка, 19 топорков с топорищами служилых, 3 ковры ветхи, 3 попоны волоских, сумки вьюшные, двои сумки переметных, одне новые, другие худы.
Да брацкого платья: 8 шуб брацких новые, 2 шубы ношены, пятеры сапоги. Да ветхово платья: 4 свитки, 10 клобуков, 6 рясок, 6 свиток, 3 камилавченка, 4 шубенка.
Да мирского платя: 2 сермяженка, 3 кафтани- (л. 96) шка суконных, 3 шубенка, 3 штанишка белых, трои сапоги мирские новые, 3 десятка рукавиц дубленых. 75 овчин деланых, 33 овчины неделаных, трои сукна толстых черных и серых, 6 кож белых мякотных, 2 кожи сыромятных, 27 кож подошевных, 4 ирхи телятины, 9 япанечь белых, 5 полстей черных неопушены, 22 холста тонких и толстых, 3 крашенины лазоревы толстые, 10 скатертей. Медведно новое (л. 96 об.), десятеры гужи моржовые да гужи сыромятные, двои дерева красных, 2 десятка дерев белых, 20 хомутин лышних, 30 шлеи мочалных, 300 лаптей, 200 рогож, 200 кулей, 20 веретищ, 3 фонаря, 3 перины, 60 кос литовок, 3 молотка, 3 наковална, 25 серпов, 2 станка котелных, 6 скоблеи, контар без гирь, лом болшои, 3 пазника, 3 тесника, 3 теслы, долото с трупкою, 2 долота простые, ножницы, 2 векши железные, (л. 97) 5 кирк, 10 лопаток, 10 втулок, 23 сохи железа да железа ж 50 полиц, укладу 10 гривенок, железа белого 30 листов, 4 свешника медных, 3 петли котелние.
Да пашенные рухляди: 30 лемехов, 33 чертца, 20 кадолов, 7 вертля-
гов, 20 сох, 18 потягов.
Да судов: 5 котлов естовных болших и малых; сковоротка черная;
3 яндовы; одна в ведро; а 2 по полуведра; 2 в них лужены; да яндовка в четверть ведра; да яндовочка маленкая; (л.97 об.) 4 кунгана медных;
один в них лужен; 9 оловяников; 2 крушки белые оловяные; 11 блюд белых болших и малых; 7 торелеи; блюдо болшое медное столовое лужено на оба лица; веко медное столовое лужено; 4 горшечка медных с кровлями сковоротка белая; чаша ценилная; став блюд троецких подписаны золотом; 3 братинки медные; 5 стопочек белых; 2 солонки оловяные брусчатые; одна с перешничком; 2 солонки столовые белые;
чарка медная; ставок маленкои медной лужен; (л. 98) колокол розшибен;
да колоколец в сенях беделной; 200 ставцов братцких; мера брацкая;
3 мисы; 5 солониц; 60 лошек шадровых; 500 лошек росхожих; 2скопкаря;
4 ковша; олифы 2 пуда.
Да в монастырской же казне денег налицо 40 рублев да старых новгородок 10 рублев, да казенных же денег взяти по кабалам на своих монастырских слугах и на служебниках и на вотчинных крестьянях и на заволостных (л. 98 об.) всяких чинов на людех 1392 рубли 4 алтына 4 денги. Да конских денег взяти по кабалам на своих монастырских слугах и на служебниках и на вотчинных крестьянях и на заволостных всяких чинов на людях 516 рублев 31 алтын 4 денги. Да кормовых денег взяти по кабалам на своих монастырских крестьянях 69 рублев 23 алтына 2 денги. И обоего налицо и в долгу денег (л. 99) по кабалам на монастырских слугах и на служебниках и на вотчинных крестьянях и на заволостных людех 2028 рублев 26 алтын 2 денги.
В Корнильеве ж монастыре врата святые древяные, на них деисус образ Спасов на престоле, сторону образ Пречистыя Богородицы, архангел Михаил, Петр апостол, Селиверст папа римский, Григореи Арамейский, з другая сторону образ Иванна Предтечи, архангел Гавриил, Павел апостол, все на золоте; меж ими столицы посеребряны сусалным серебром. Да над малыми вороты (л. 99 об.) образ Спас Нерукотвореннои на болшои доске на твореном золоте с красками в киоте, а киот писан красками. На тех же досках на другой стороне над вороты писан образ святыя Троицы, а по обе стороны многие святые на золоте в 2 яруса, меж ими столпцы посеребряны сусалным серебром;
а с приходящею сторону вереи резаны по дереву, а внутрь монастыря
вереи гладю.
В подкеларникове службе в белой полатке Божия милосердия
деисус образ Спасов, образ Пречистыя Богородицы да Иван Предтеча на золоте в киоте, а киот (л. 100) писан красками. Да на другой стороне образ Моление Пречистыя Богородицы, у подножия ея чюдотворец Корнилии на краске, пядница. Да в той же полатке в чюлане образ Кирила Белозерского чюдотворца на краске, пядница. Да перед полат-
кою в сенях в чюлане образ Антонеи Великий да Корнилеи чюдотворец во облаце Спас на краске. В верхнем чулаке, что над десницею, образ Моление Пречистыя Богородицы, у подножия Корнилии чюдотворец на краске.
Да в той же белой полатке у подкеларника судов: сутки чюдотворца Корнилия древяные, росолничек (л. 100 об.) да оловеничек, да переши-ичек. Да сутки ж столовые белые: тройня брусчатые, другие сутки круглые оловяные четверня, а третие оловяные ж двойня, росолник белой ветх, да 4 росолника древяных, 5 солонок оловяных белых ветхи гораздо, 10 блюд оловяных болших и малых, 2 блюда медные, 9 блюд шадровых, 17 сковородок белых добрых и худых, 2 ножика брацких, 10 ложек шадровых с костьми, 4 скатерти, 3 шиты, четвертая гусина плоть, 4 скатерти брацких, (л. 101) 30 скатертей тонких и толстых обиходных. Да в келарскои службе у хлебовара деисус Спас всемилостивый, по сторону образ Пречистыя Богородицы, по другую сторону Иван Предтеча на одной доске, на красках, в киоте, а киот писан красками; на другой стороне образ Пречистыя Богородицы Моление, у подножия ея Корнилии чюдотворец. А у него в службе 10 солониц медных; 2 кандии, одна булатная, другая медная; 2 ножи болшие, хлебы распускают, а третей нож поменши.
Да в черной келье образ Пречистыя Богородицы Моление, у подножия ея (л. 101 об.) чюдотворец Корнилии да образ Пречистыя Богородицы Умиление, на красках оба. Да рухляди: 2 котла медных по 4 ведра; котел медной в 2 ведра, веко медное ветхо, 5 сковородок черных, 4 сковороды блинных, чаша медная, 4 сечки, 3 топоры дрово-сечных, 2 тагана, клепик, 2 заслона железных половинками, кочерга железная, косар, сковородник.
В ественнои поваренной службе Божия милосердия в сенях образ Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа на золоте, да крест (л. 102) резан на дереве, писан красками, да образ Антония Великого, образ Корнилия чюдотворца.
Да поваренной рухляди: 6 котлов медных болших по семи ведер, и в том числе один котел гораздо ветх, да котлик медной з душкою в 2 ведра, котел железной штеварнои в 10 ведр, 17 сковородок медных черных, противен медной, да 2 века медные, 2 скрепка железных, котлы скребут; заслонка железная, кочерга железная, топор, пешня, 5 сечек, 2 клепика,заступ, косарь.
(л. 102 об.) Да в квасной поварне образ Пречистыя Богородицы Одигитрия на краске. Да рухляди: котел квасной, квас варят, во 100 ведр;
другой таков же, гораздо ветх, 2 тчана болших, один заторник, а другой холодник, 3 колоды холодных же.
Да на квасном погребе судов: яндова медная болшая, 2 яндовы медные, одна полужена, поменши тое; 2 кунгана медные; 4 оловяники, 2 болшие, а два поменши; 6 мер древяных, седмая с кругом железным;
3 ковша болших с крюками, квас розлевают; (л. 103) скопкар древянои;
18 чаш медных, одна из них маленкая чашка; 2 чаши древяных; ковш древянои с кругом железным на братью перед столом квас розливают;
17 ковшиков питьих; 24 бочки болших квасные; 10 носков квасных; топор
да заступ.
На рыбном погребе 2 тчана мелкие рыбы да 100 карасей соленых;
тчанец мелкие рыбы, 3 четверти муки пшеничные, осмина яшные муки, 20 кулей сущу мелково, круп овсаных 20 чети, толокна дватц[ать] четвертей, (л. 103 об.) пластового сущу полтретяста рыб, облого сущу 300 рыб, мяса свиного соленого 4 полти, свежего свиного мяса 24 полти,
соли 2 чети.
Хлебня. В хлебне Божия милосердия крест животворящий писан красками. Да рухляди: 4 чепи в стулех, котел железной водогрейной в 10 ведр; нож большой, хлебы роспускают, скребок квашенной; косар, 2 покрова квашенных; 6 кашул; да четверы рукавицы вытчикавых;
(л. 104) 2 сита, 2 решета; да в хлебне муки ржаные 5 четвертей.
В монастыре: игумен Рафаил, да келарь старец Александр, попы черные черной поп Ермоген, черной поп Селиверстр, черной поп Сергии, черной дьякон Паисея, казначеи старец Питирим, конюшеи старец Аркадеи, житник старец Измаило, полщик старец Тимофеи, старец Илья Кобылскои, чашник старец Леонид, подкеларник старец Феодосеи, хлебовар старец Герасим, огородник старец Иор, старец Филарет, (л. 104 об.) старец Елеуферии, старец Андреан, старец Марко, старец Пахомеи, старец Илья, старец Феофан, старец Арсенеи, старец Павел, старец Ларион, старец Симан; пономари: старец Филарет, старец Галасия, старец Сергии, старец Иоило, старец Павел, старец Тихан, старец Перфиреи, старец Генадеи, старец Кирило, старец Вар-лам, старец Арсенеи, старец Аврамеи, старец Иона, старец Деонисеи, старец Иосиф, старец Варлам, старец Иосиф, старец Ларион, старец Офонасеи, (л. 105) старец Матфеи; да болнишные: старец Деонисеи, старец Макареи, старец Гедеон, старец Макареи, старец Емелян, старец Иив, старец Серапион, старец Саватеи.
Слуги монастырские: Павел Беляницын, Яким Беляницын, Никифор Костров, Иван Макаров, Любим Мижуив, Федор Киреив, Семен Дружинин, Тимофеи Иванов,Иван Болотов, Тимофеи Ивдокимов, Никита Сту-нецкои, Посник Иванов, Федор Васильив, Федор Чюпреянов, Семен Фаустов, Иван Михаилов, Кручина Невежин, Сава Трофимов, Игнатеи Федоров, Ивтехеи Иванов (л. 105 об.) Федор Ласицын, Григореи Самсонов, Пантелеи Костров, Сергеи Самсонав, Фатеи Василив, Тимофеи Алексеив, Никита Панов, Иван Григорев, иконник Филип Марков, Иван Максимов, Аника Андреив, Ларион Иванов.
Портных швалеи: Анкидин Деонисив, Дунай Федоров. Чеботных швалеи: Тимоша Степанов, Нестерко Иванов. Токарей: Никуда Дементь-ив, Ивашко Семенов, Еска Коровин. Плотников: Архип Корела, Ивашко
Никитин, Антипа Ивсевьив, Афонка Еуфимов, Игнашка Коровин, Зотка Ансифоров, Елизарко Иванов, (л. 106) Рыбных ловцов: Пантелеи Стефанов, Гераско Андреив, Сенка Молчанов, Ивашко Кишкин, Андрюшка Давыдов. Кузнец Иивко, кузнец Фомка.
Служебники: Обрашка Афонасив, Панкрашка Василив, Фетка Иванов, Ивашко Аникиив, Ивашко Ансифоров, Тренка Фомин, Ивашко Молчанов, Савка Ананин, Савка Герасимов, Сенка Ананин, Левка Серги-ив, Игнашка Осипов, Ратка Лукьянов, Фетка Савелив, Мишка Неупокоив, Ивтюнка Ивсевьив, Ганка Осипов, Захарко Иванов, (л. 106 об.) Петрунка Василив, Кирилко Корнилов, Шестунка Посников, Данилко Нестеров, Любимко Иванов, Якунка Иванов, Тимошка Никитин, Тренка Гурянов, Спирка Ивтифьив, Гришка Коровин, Митка Фторов, Еска Григорев, Гришка Башарин, Гришка Малафеив, Васка Игнатьив, Фомка Григорев, Артюшка Иванов, Сенка Петров, Филка Осипов, Ивашко Федотов, Стенка Герасимов, Гришка Федоров, Ивашко Григорев, Фетка Яковлев.
Детеныши: Богдашко Вахрамиив, Богдашко Немко, Емелка Гаври-i лов, Ивашко Карпов.
(л. 107) На монастыре келеи. Казенная полота каменная теплая, против ея полота казенная каменная кладовая, а промеж ими сени каменные ж. Да келья невелика брацкая каменная приделана х казенной полате каменной х кладовой. Да у святых ворот сторожня каменная. Да игуменские 2 кельи, да келарские 2 кельи, да брацких 16 келеи, да на огороде 2 кельи, за монастырем келья конюшенная, да келья гостиная, да 3 кельи служних, 2 кельи шваленных, портная да чеботная, келья неводная, (л. 107 об.) На дворце келья токаренная, да 2 кельи служебники живут.
В монастырских житницах хлеба, по скаске житника старца Измаила, ржи 568 чети 3 полуосмины; пшеницы 145 четвертей с осминою, ячмени 56 четвертей, овса 1070 четвертей с полуосминою. Запасу на мелницах:
муки ржаные 45 четвертей, солоду квасного 60 четвертей.
В Персове пустыни ржи 43 четверти, овса 50 чети, 6 чети, (л. 108) ячмени 3 четверти.
В Коптеве пустыни ржи 24 четверти, овса 62 четверти, пшеницы полторы четверти, ячмени четверть; запасу муки ржаные 4 чети, солоду 2 четверти.
В селе на Лапшине ржи 60 четвертей, пшеницы четверть, ячмени 8 четвертей, овса 100 четвертей; запасу: муки ржаные 3 четверти, солоду 6 четвертей.
В селе на Новом ржи 100 четвертей, пшеницы 2 четверти, ячмени 5 четвертей, овса 200 чети; (л. 108 об.) запасу: муки ржаной 10 четвертей, солоду квасного 5 четвертей с осминою.
В селе на Погорелом ржи 220 четвертей с осминою, пшеницы 2 четверти с осминою, ячмени 12 четвертей, гороху 4 четверти, семяни конопляного пол-осмины, семяни льняного 2 путка.
В селе на Мошонкине ржи 200 четвертей, ячмени 5 четвертей, овса 413 четвертей; запасу: муки ржаные 8 чети, солоду квасного 7 четвертей. (л. 109) И всего в монастыре и в пустынях и в селах налицо в житницах хлеба ржи 1256 четвертей с полуосминою, пшеницы 152 чети с осминою, ячмени 7 четвертей, овса 2209 четвертей с полуосминою; а запасу в монастыре и в пустынях и в селах: муки ржаные 70 четвертей, солоду квасного 80 чети с полуосминою. А в долгу хлеба на монастырских крестьянях и на заволостных людех по кабалам и безкабално роздано взаймы нынешняго 165 году ржи 598 чети с осминою, (л. 109 об.) пшеницы 13 четвертей с полуосминою, ячмени полторы четверти, овса 859 четвертей. В Персове пустыни роздано ржи 5 четвертей, овса 13 четвертей с осминою. Села Лапшина ржи роздано 60 четвертей с осминою, овса роздано 46 четвертей 3 полуосмины. Села Нового роздано ржи 60 четвертей, овса 9 четвертей. В селе на Погорелом роздано ржи 30 четвертей, овса 50 четвертей с ооминою. (л. 110) В селе на Мошонкине ржи роздано 20 четвертей, овса 27 четвертей с осминою. Обоего из монастырских житниц и в дву пустынех и в селех роздано хлеба в займы в кабалы и безкабално прошлого 165-го году ржи 719 четвертей, овса 1006 чети с полуосминою. Да в прежних летех старого долгу в роздаче хлеба в кабалах и безкабално на монастырских вотчинных крестьянях и на заволостных людех из монастырских житниц на монастырских вотчинных крестьянях ржи 630 чети с осминою, (л. 110 об.) овса 1078 четвертей 3 полуосмины, пшеницы 18 четвертей, ячмени 19 четвертей с полуосминою. В Персове пустыни роздано овса 17 четвертей с осминою. В Коптеве пустыни роздано ржи 18 четвертей 3 полуосмины, овса роздано 40 четвертей. В селе Лапшине роздано овса 20 четвертей да четверть ржи. В селе Новом роздано ржи 6 четвертей, овса 40 четвертей. В селе на Погорелом роздано ржи 5 четвертей, овса 11 чети. (л. 111) В селе на Мошонкине роздано ржи 3 четверти, овса 8 четвертей, да заволостным людем роздано в кабалы в займы ржи 39 четвертей с осминою, овса 98 четвертей с осминою, пшеницы 3 четверти. И обоего старого хлебного долгу по кабалам и безкабално на своих вотчинных крестьянях и на заволостных людех из монастырских житниц и в дву пустынях и в селех ржи 647 чети с полуосминою, овса 1313 чети 3 полуосмины, пшеницы 3 четверти.
(л. 111 об.) Да ржаного посеву ржи высеяно в монастырское поле ко 166-му году 182 четверти. В Персове пустыни высеяно ржи 27 четвертей с осминою. В Коптеве пустыни высеяно ржи 17 четвертей. В селе Лапшине высеяно ржи 73 четверти с полуосминою. В селе на Новом высеяно ржи 46 четвертей с полуосминою. В селе на Погорелом высеяно ржи 50 четвертей с осминою. В селе на Мошонкине высеяно ржи 54 четверти (л. 112). И всего ржаного посеву в монастыре и в дву пустынях и в селех высеяно ко 166-му году 443 чети с осминою.
Конюшенной двор. На конюшенном дворе всякие езжалые рухляди:
5 седел брацких с сымалниками и с воилоками, а воилоки с кожами. Да брацких же новых и старых седел[с] снастми, да мирских новых и старых 16 седел; да 16 воилоков подседелных; 2 узды брацких з жуками;
да брацких же новых и старых 18 узд; мирских 5 узд; да 8 заузделниц;
(л. 112 об.) 7 полстей черных новых и старых, 6 япанечь брацких черных;
8 япанечь мирских новых и старых; 8 медведен; 4 хомута брацкие с передовиками и с хвостами; 5 хомутов брацких же, 3 в них с передовиками; 6 хомутов розезжих, у трех шлеи ременные; 8 попон бисяг, 3 пристеженка ременные; семеры возжи нерпечьи; шестеры сани с щитами; 3 дуги красные; 5 колоколов конских; 2 парника, 3 цепи собачьих; греблица; кочерга железная; огниво.
На конюшенном дворе на стоилех лошадей: (л. 113) жеребец врыжечал, грива направо; жеребчик рыжь, грива налево; да меринов:
мерин гнед, грива налево; мерин темносер, грива налево; мерин ворон, грива налево сотметом; мерин чал, грива направо; мерин сер, грива налево; служилых 20 меринов, да работных 60 лошадей. В Персове пустыни 11 кобыл пахотных; трех годов кобылка; дву годов жеребчиков и кобылок четверо; селетков жеребчик да кобылка, (л. 11 Зоб.) В Коптеве пустыни на конюшенном дворе 10 кобыл хомутных, да четырех лет 6 кобылок, да дву годов кобылка да жеребчик дву ж годов, селетков 3 жеребчика да кобылка. В селе на Новом на конюшенном дворе на стойле 2 жеребца: жеребец ворон, грива направо, с отметом, жеребец чюбар, грива на обе стороны. В селе на Лапшине на конюшенном дворе на стойле жеребец темносер, грива налево; да жеребец темночал, грива направо, с отметом; да деловых лошадей 20 кобыл; да трех годов 7 кобылок; (л. 114) дву годов 3 жеребчика да 7 кобылок; селетков жеребчиков и кобылок семеро. В селе на Погорелом на конюшенном дворе на стойле жеребец из ворона кар, гривна направо; да деловых лошадей 28 кобыл; четырех годов 2 кобылки да 2 жеребчика; трех годов 3 жеребчика да 2 кобылки; лонщаков 3 жеребчика^ селетков 8 жеребчиков да 3 кобылки. В селе на Мошонкине на конюшенном дворе на стойле жеребец темносер, грива направо; да деловых лошадей (л. 114 об.) 21 кобыла; трех годов 6 жеребчиков да 7 кобылок; лонщаков 3 жеребчика да 5 кобылок; селетков 6 жеребчиков да 2 кобылки. И обоего на монастырском конюшенном дворе и в дву пустынех и в селех стоялых жеребцов и меринов служилых и деловых лошадей и кобыл болших и малых, жеребчиков и кобылок трехлетних, лонщаков и селетков.*
Да в монастыре же на воловье дворе 13 быков болших да 40 коров, дву годов 7 бычков
(л. 115) Два истока, в одном идет в Корнилив монастырь 4 рыбы, а пятая идет в Прилуцкои монастырь; другой исток на Кекосе да ез на усть
*Итога не дано.
реки Лежи и двор становой; да ез на Верхней Сухоне; ез на реке на Вологде; на реке ж на Вологде другой ез, словет Пустяк. По реке по Сухоне и по Вологде, и по Леже и в озерках 21 пожня.
Да в городе на Вологде двор осадной; в Поповской улице другой двор на посаде в Новинках.
(л. 115 об.) Да по переписным книгам монастырских вотчиных крестьян и бобылей в Вологоцком уезде в подмонастырьнои вотчине и в Пошехонском уезде в селех и в деревнях 704 двора.
Да платити долгу из монастырьские казны, что заимывал бывшей келарь старец Дмитрею Иванову сыну Елякову, платити 170 рублев;
москвитину торговому человеку (л. 116) Ивану Шангину платити 20 рублев; монастырскому слуге Семену Дружинину платити 10 рублев денег; монастырскому крестьянину Ермоле Немирову платити 10 рублев. И обоего платити из монастырские казны долгу 210 рублев.
QQQ
ЖИТИЕ КОРНИЛИЯ КОМЕЛЬСКОГО
Житие Корнилия Комельского — памятник вологодской агиографии, посвящённый основателю Корнильево-Ко-мельского монастыря, что под Грязовцем.
Автором жития является инок этого монастыря Нафанаил. Известна точная дата его написания — 22 мая 1589 года. Имя автора и дата написания памятника дошли до нашего времени благодаря записи, сохранившейся на одной из рукописей: “В лето 7097 мая в 22 день при державе государя, благовернаго царя и великаго князя Феодора Ивановича, всея России самодержца, благословению отца нашего игумена Лаврентия написано бысть житие преподобнаго во обители пречистыя Богородицы Корнилиева монастыря рукою многогрешна-го и последнего во иноцех Нафанаила Корнилиевскаго”. Нафанаил был современником Корнилия Комельского и даже “рукоположению от святаго сподобихомся”.
Житие Корнилия Комельского традиционно по форме и содержанию и состоит из собственно жития с авторским предисловием, описанием прижизненных чудес, словом о преставлении святого и сказанием о посмертных чудесах.
Как повествует житие, Корнилий — уроженец Ростова. Отец его был знатный и богатый человек из рода Крюковых. Брат отца Лукиан нёс службу при великой княгине Марии, супруге великого князя Василия Тёмного, по его инициативе семья переехала в Москву, где Корнилий был определён на службу ко двору княгини. Однако Корнилий тяготился придворной службой и, когда его дядя Лукиан постригся в монахи, уйдя в Кирилло-Белозерский монастырь, вслед за ним последовал и Корнилий. Там, сверх монастырских послушаний, он занимался книгописанием и, как повествует житие, “свидетели же сим книги его в Кириллове и доныне”. Потом, по тогдашнему обыкновению, “вдал себя странничеству”, странствуя по монастырям и пустыням для научения иноческому труду. Какое-то время Корнилий жил в Новгороде при архиепископе Геннадии, которого последний ценил за то, что он был “премудростию, разумом и словом украшен”. Из Новгорода Корнилий ушёл в пустынь сначала близ Новгорода, а потом недалеко от Твери. Но поскольку многие из уважения к его добродетелям начали посещать его в уединении, он в 1497 году пришёл в глухие комельские леса, где спустя какое-то время и основал обитель. В фондах Вологодского музея-заповедника имеется подлинник “ставленной грамоты митрополита Симона дьяку
иноку Корнилию Федорову сыну Крюкову в иеромонахи пустыни при церкви Введения Богородицы в Комельском лесу на р. Курия Костромской десятины”2. Грамота датируется 1501 годом.
В житии подробно описывается работа Корнилия по устройству монастыря, где были построены две церкви, новые братские кельи, богадельня, больница, хлебопекарня, “поварня”. Однако Корнилий заботился не только об устройстве бытовой стороны жизни братии, но и думал о “спасении души”, преподав урок монашеской жизни в написанном им монастырском уставе. И хотя Устав Корнилия Комельского является самостоятельным памятником древнерусской книжности, в житии кратко изложено его содержание. Основной мыслью устава является неустанно повторяющееся требование полной личной нестяжательности иноков и полной общности монастырского “имения”.
Автор жития, описывая подвиги святого, глухо упоминает о каких-то конфликтных ситуациях. Не этим ли было вызвано желание Корнилия покинуть монастырь, освободиться от игумества, якобы для того, чтобы “безмолствовать в пустыни”? Но как бы то ни было, “устроив монастырь всякими потребами душевными и телесными ко спасению иноческого жительства”, Корнилий поручает обитель 12 избранным от братии старцам, а сам удаляется с учеником своим Геннадием в леса близ Костромы-реки на Сурское озеро.
Великий князь по дороге на богомолье о даровании наследника в Кирилло-Белозерский монастырь посетил и Корнилиев монастырь в то время, когда Корнилий уже оставил свою прежнюю обитель. Монастырская братия настоятельно просила великого князя помочь вернуть им своего игумена. “Самодержавный же послуша моления и слезы их… посла своего посланника в пустыню к старцу Корнилию, повеле ему быти в монастырь свой и ждати себе до инде же возвратится из Кириллова”. Корнилий по повелению великого князя “прииде” из пустыни. Однако даже после уговоров со стороны великого князя преподобный добился позволения не возвращаться в свой монастырь.
Вскоре на новом месте своего “безмолвия” Корнилий захотел создать церковь и отправился в Москву за получением разрешения от великого князя Василия III. Князь же “помяну моления и слезы братии… понудити отца их Корнилия пребывати в монастыре…, не повеле ему в пустыни церкви созидати”. После этого Корнилий какое-то время укрывался в Троице-Сергиевой Лавре, но в конце концов не мог ослушаться великого князя и вернулся в свой монас-
тырь. Потом преподобный вторично было отошёл на покой в Кирил-ло-Белозерский монастырь, но по усиленной просьбе братии Комель-ской обители опять вернулся, уже не приняв игуменства, а вручил старейшинство ученику своему Лаврентию. Сам Корнилий вновь “затворился в келий и пребываше в безмолвии” до смерти своей 19 мая 1537 года.
В.О. Ключевский отзывается о житии как о памятнике богатом биографическими подробностями, о том, что он “прост и ровен, даже сух и сжат, что возвышает его цену”3. В текст жития автор вводит много историко-бытовых подробностей местного характера: описывает один из последних набегов татар на вологодские земли, приезд великого князя Василия III в Кирилло-Белозерский и Корнильево-Комельский монастыри, сообщает о страшном голоде, постигшем Вологду. В одном из посмертных чудес Корнилия Комельского даётся словесный портрет святого: “Светел лицем и красен сединою и видением умилен…” В состав вологодского списка жития Корнилия Комельского входит описание 11 посмертных чудес, причём большинство из них — исцеление приводимых к нему больных, преимущественно бесноватых. Язык памятника прост и лаконичен, но в тоже время изобилует прямой речью, оживляющей повествование.
Представленный для публикации текст жития Корнилия Комельского по списку Вологодского музея-заповедника относится к 30-м годам XVIII века4. Известно несколько списков этого памятника. Житие принадлежит к числу памятников, ранее нигде не публиковавшихся. Его публикация позволит ввести в научный оборот ещё один из памятников местной традиции.
Н.Н. Малинина (г. Вологда)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ГБЛ, собр. Тр.-Серг. лавры, № 562.
2. ВГИАХМЗ, ф.1, оп.2, д.1.
3. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1988, — С. 303—304.
4. ВОКМ — 2031, л.67—138.
ТЕКСТ ЖИТИЯ
Месяца маиа в 19 день житие и подвизи преподобнаго отца нашего Корнилиа новаго чудотворца рускаго града Вологды в пределех, иже на комельском лесу пречестен монастырь поставлшаго Пречистыя владычицы нашея Богородицы честнаго ея Введения и в нем общежитие составлшаго и братию совокуплша. Благослови отче.
Разум убо православным Христианом духовных муж житие ползы ради испытовати и словесы о нех ползу приимати по реченному — духовным духовная прилагаются. И о нех поучение во уме имуще, помалу ревнующе их во плоти пребывания, на ревность душу по возможному возводяще. Мы убо зде в монастыри седяще от многих слышим помышляющим и глаголющим, како в малое се время сей святей обители цветущей и впредь поступающей, паче же видящей чин и устроение и благочиние велие и просяще кождо их: да дадите нам житие написано святаго старца вашего, господина нашего Корнилиа. Слышим бо от многих окрест живущих знамением бо неким бывающим от гроба святаго старца Корнилиа. Мы же ведуще нрав старца своего, яко всеми образы уклоняющася похвалы от человек, взираше бо на болшее мздовоздаяние. Сего ради аще и мы желаем писанию предати яже видехом и слышахом от уст святаго старца, но обаче ленивейши бываем, аще неугодно будет отцу нашему и вместо от него помощи сопротивное обрящем, ибо и в лествице писано, еже убо святых жития похваляти добро, а еже ревновати ко спасению ходатайственно, а еже единицею подобитися безсловесной и немощно, но обаче подобает нам в памяти имети наказание и предание старца Корнилиа, не яко оному хотящу от нас славиму быти, но мы своея ради ползы понудихомся написати, аще и грубе зело, но обаче помысл зрит на исправление душам, верующим житию и поучению святаго. Мы бо аще и недостойни есмы ученицы его нарицатися, но убо рукоположению от святаго сподобихомся, не воиз-вестных словесех память держим святаго старца, но между собою во обители его пребывающей глаголем о нём и пишем, поощряюще свою совесть и просвещаем души наша памятию отца нашего.
О рождении святаго
От славнаго града Ростова, от благочестиваго корене израсте до-броплодная розга от славных родителей, иже многим богатством цветущей паче всех во граде Ростове, сей святый чюдный отрок родися от отца Феодора и матере Варвары. Той же Феодор не незнаем сый и самодержавному всеа России, еже и преселитися ему от Ростова повелено бысть во имя великия княгини Марии, последи же Марфы, ея же имя имянито паче всех прежде бывших благочестием и милостынею. Сего ради убо обретши того Феодора благочестива мужа и житие не зазорно имуща. Брату же его Лукиану прежде его за много время дьяческий чин державшу, сея блаженныя и приснопамятныя великия
княгини Марии, во инокинях Марфы, всякдуховный совет Лукиан ведный и всегда на добро советуя. Сего Феодора брата его с детми пресели на Москву, его же сын четвертый отец наш. Еще сый в юности в написании бысть един от всех двора сея благоверныя великия княгини Марии.
О пострижении святаго
Лукиан убо стрый ему оставль мир и иде в Кириллов монастырь, и бысть мних, с ним же и сей отец наш Корнилие бысть мних вкупе во едином манастыри, еще сый тогда двою на десяти лету и горящим желанием божественныя любве присно распалаем, своему наставнику Генадию именем без лености повинуяся, и всяку службу работную прошед. И по седмихлетех изыде из монастыря и шедво свое отечество в Ростов, и увеща своею по плоти брата именем Акинфа и приводе и в монастырь, и инока сотвори, и нарекоша имя ему Анфим. .Сам же болшим трудом касашеся, великими работами монастырскими дручаше тело, кто бо невесть кирилловския хлебни, не токмо свой чред провож-даше, но и за братию с любовию страдаше и железы тяшкими связоваше тело. И некто бо отту сущих брат поругася ему и оболсти его коварством, виною благоговейною, вземше у него их же ношаше железа и повелеша в них прековати топоры. Он же по службам труждаяся такову тяготу на себе имея, к сим же и книги писаше в церковь, свидетели же сим книги его в Кирилове и ныне. Таже потом изыде блаженный из Кирилова монастыря и по лествичному последованию вдает себе странничеству, иский ползы отвсюду. И обшед монастыря и пустыня, и когождо добрыя нравы и житие смотрив, и от всех приплоди семя веры добрых дел, и во своей души вложив. Потом прииде в Великий Нов град ко архиепископу Генадию и пребысть у него время немало. Архиепископ же позна святость старчю, яко премудростию духовною, и разумом, и словом украшен, возлюби его велми. Последи же и священству его сподобитися хотя, аще тому и нехотяшу. не пщеванием да держит его у себе. Старец же от архиепископа священнический сан прияти сподобитися и священ-нодействовати и жити у него не восхоте, но умоли его да безмолствует в пустыни. И отпущен бысть от него и пребывая в пустыни близ великаго Нова града. Многу же потребных архиепископ посылаше к нему в пустыню, самого же старца призываше к себе часто беседы ради духовныя. Последи же и сам прииде архиепископ в пустыню к старцу посещения ради, старец же тяшко сие быти помышляя. Таже и множество народа начаше приходити к нему ползы ради и пресецаху ему безмолвие, остави место то отиде к Твери и тамо водворися в пустыню близ Саватиевы пустыни, но и тамо познан бысть, и неоставлше его безмолствовати. Он же боголюбец сый, и ненавидя славы человеческия, и ту остави пустыню. Таже покусися не во едином месте безмолствовати на пустех местех, но не благоволи бог, да соберутся к нему братия. Последи же при державе великаго князя Иоанна Василиевича всеа
России и благословением преосвященнаго Симона митрополита от него же иерей бысть.
В лето 7005-го прииде блаженный Корнилие на комельский лес, бе бо тогда непроходим, и ту обрете храмину разбойническу и вселися в ню, и начать отребляти место то. И помощию Пречистыя владычицы нашея Богородицы поткну кущу и ту всяку страсть претерпе от бесов же, и от человек, и от разбойников. “Отиди, — глаголах, — от места сего, да не зле умреши.” Началник же убо разбойником места того погибе и дружина его исчезома молитвами святаго Корнилиа. Иногда же безмол-ствующу ему нападоша на нь разбойницы, мняще имение у него обрести, и ничтоже обретоша разве книг, и вземше книги, и отидоша, и блудиша всю нощь по лесу, и велми утрудившеся возлегше почиша. И заутра воставше, обретошася близ келлии преподобнаго и познавше грех свой пришедше отдаша книги, прощения от него прошаху, святый же старец прости их и отидоша с миром. Отец наш оттуду отраду приим начать прилежнее быти на месте том, труждаяся велми и помышляше друды питати себе и сущих с ним начать тяжарь быти, яко же Ной праведный на потопе, лес секий и нивы насевая, и приходящая приемля и мимохо-дящая кормляше. И помалу помалу пречестныя помощию церковь постави во имя Пречистыя владычицы нашея Богородицы честнаго и славнаго ея Введения. Братии же прибываши и молитв множашеся, но кто доволен словесы обличити и сказати повестми, яже сотвори труды и подвиги на месте том. Ово убо от злодей биен бысть, едва дыша прииде. Ово же древо паде на нь без ветра. Братия бо вси без вреда мимо идоша то древо, оному же, яко пастырю вослед братии идушу, падеся на него древо диаволским действом. И болезнуя близ смерти дванадесять седмиц со одра недвижим пребысть, и едва устрабися от болезни тоя. Прииде же некогда к делателем и седе на стромнине и абие внезапу падеся доле, и возболи паче перваго, и от сего едва смерти гонзну. Иногда же приведен бысть зелне главу язвену имея от древа падшего на нь. Что же навети от зависти и ненависти, от чюжих и от своих, клеветы и досады, и до самого державнаго доидоша на нь! Он же, яко камень адамант пребываше в злых благодарствуя, скудость же и поношение и прещение како могу и списати. Братии же множашеся, нужда есть место разспространити. Корнилие же вышняго положи в прибежище начать, елика сила делу касатись, Богу помогающу ему, молитвами Пречистыя владычицы нашея Богородицы распространи место и собра множество братии. Уведено бысть боголюбивому и великому князю Василию Иоанновичю всеа России о старцы Корнилии добродетелное и трудолюбное его житие, и чтяще его велми. Таже и от всех познан бысть, и начяша отвсюду приходити к нему, и моляху его приятии во иноческий образ. Он же приимаше с верою приходящих, поминая слово Господне, глаголющее: “Приходящаго ко мне неизждену вон” и постризаше их, сочеташе з братию и печашеся о них, яко отец
чадолюбивый и истинный пастыр радяше о овцах, умножившужеся стаду Христову словесных овец, сииречь братиям. Церков же бе мала прежде. Святый же старец з братиею совет сотвори, создати понуждаше их болшую церковь. Они же с радостию обещашася тако быти. Блаженный же старец молитвы со слезами присно ко Господу Богу принося, глаголющему: “Без мене не можете ничтоже творити,” да некако начало положат основания к совершению ослабеют. Господь же волю боящихся его сотворит и молитву их услышит, и овомудаст художество к возграж-дению стенам церковным, другим же мудрость писати образы святых икон, инем же резати честныя кресты, другим же писати книги, зде благовременно есть рещи, яко же древле веселейлу и прочим, иже примосеи к составлению сени. И поспешением божиим и помощию Пречестныя Богородицы, и молитвами старца Корнилиа, и труды блаженных его ученик, паче же постом и слезами, создана бысть церковь превелика. И освяти олтарь во имя Пресвятыя владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии честнаго ея Введения в лето 7023-го при державе великаго князя Василия Иоанновича вса России и благословением преосвященнаго Варлаама митрополита всеа России по пришествии старца Корнилиа на место то в 19 лето, и украсиша ю благолепотне, яко невесту предобру образы святых икон и книгами. И служители церковныя устави, священники и диаконы, и четцы и певцы, и еклисиарх и весь чин, яко же лепо быти в великих лаврах. И потом созда другую церковь с трапезою и освяти олтарь во имя преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антония Великаго Египетцаго. И посем келейное начен здание и устроив четвероуголен образ монастырю, келию к келий совокупль, их же посреде стоят церкви, яко же некия очи зряще всюду, и потом постави болницу и хлебопечницу, и поварню, созда же и богаделну вне монастыря странным и нищим на покой. Устави же монастырскому строению келаря и прочая служебники, хлебопечца, и повары, и нарядники делатарем. Сам же болма подвизашеся день и нощь, и вовся службы призираше, и всех обхождаше видети труждаю-щихся и в монастыри, и на нивах, и всех посещаше, и утешение подаваше противо труду когождо их. О прочих же самотворении его несть мощно исповедати, сказания бо дело се, а не жития повесть.
О приходящих ко святому ползы ради
Множество же людей от многих стран к нему прихождаху, овии благословение хотя получити, овии же вопросити о них же имяху недоразумных, инииже разрешение ищуще различных некоих душевных и телесных. Корнилие же дарованием божиим приходящих к нему с верою вся разрешаше, и вся сказоваше, и всех благословляше и утешаше, и ни единаго скорбна отпущаше, и обаче сия добре имяху ему.
Начат прочее полагати церковныя уставы, и образы благочиния, и закон и правила душеполезна по заповеди Христове и по преданию святых апостол и преподобных и блаженных отец и по уложению
великаго Василиа, когда пети Бога лепо есть бдением в дневных и нощных службах, и еже не оставляти кого беседовати в славословии или в празднословити и не пети, но ниже часто входити и исходити коему егда любохощет, ни деяти кому что множае поведенных, но коемуждо во свое время довлетися своею служебною властию, и всякия работы монастырския творити по благословению настоящаго, всяческую же добродетель тщашеся прежде сам исправити, сице и братию учаше, еже презирати плоть преходит бо, всякое же тщание и прилежание о души творити, о вещи безсмертней, и ни в чем же воли своея не творити, и тесным прискорбным путем шествовати, ведущим в живот вечный, широкаго же и пространнаго пути всячески удалятися, ведущаго в пагубу.
О кресте и о мнисе Анании
Егда же преподобный Корнилие прииде на место се, тогда сотворити крест и поставити его в дале от монастыря единаго поприща надорозе. Мимоходящим же и недужнии приходяще поклоняющеся ему с верою и молящеся нас ради распятому Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой его матери, и святаго старца молитвы призываху на помощь, и приемлях здравие душевное и телесное, и облегчение путь шественное, и полагаху милостыню на препитание пустыни, и отхождаху.
Некоему же брату именем Анании повелено бысть от святаго приима-ти милостыню ту и относити в монастырскую казну. Он же даянная приемля, и ова приношаше в казну, иная же скрываше себе, другая же отдаваше амо же он хотяше без благословения святаго старца Корнилиа, бе бо заповедано от него всей братии, ничтоже приимати или даяти без благословения настоящаго. Во время же божественныя литургии, егда хотящим братиям приимати святую дору, прежде приходяще и поклоняющеся Пресвятей Богородице на иконе написанной на руку имущу Господа нашего Иисуса Христа, и целующе святую икону, и приимахудору от руку преподобнаго. Предреченный же братАнания, о нем же нам слово предлежит, поправ свою совесть и страха божия не убоявся, и заповедь святаго ни во что же вменив, прииде с прочею братиею целовати святую икону, и абие икона в верх возвысися от него. Ему же мало отступлшу, прочая братия невозбранно целоваху. Ему же зрящусия, и начать покушатися второе на целование иконы, и паки икона от него возвышашеся, он же позна свое согрешение, отшед начать плакати горко, и пришед к старцу Корнилию покаяся и исповеда ему вся сия.Святый же наказав его, к тому таковая не творити, и прости его, и поведа инем ползы ради. Мы же о сем известно испытавше того самого брата Анании сказа нам такоже, якоже и святый нам исповеда. Мы же сия и писанию предахом.
О хлебопечце
Иногда же некоему брату от преподобнаго повелено бысть болшину имети над хлебники. Единою же за пять ему враг не восхоте благосло-витися у старца Корнилия испече хлебы. Сия же уведе старец, восхоте брата ползовати.да прочий страх имут, повеле хлебы тии в сани вкласти и испроврещи на пути мимоходящим, и бе их два воза, сице рек : “Да ниже пси снедять нашия ограды наблагословеннаго сего хлеба.” Братже позна грех свой, прииде ко святому и покаяся со слезами, и прощения прося. Святый же поноси ему впредь не дерзати, и поучи его сице не творити, и прости его.
О нарядницех
Инема же двема братома поручено бысть от святаго за делатари наряд, и сим вложи диавол ненависть на святаго, и зело ненавидяху его, и восхотеша убити его. Святому же отцу нашему неведущу сего. Они же изысковаху времяни и места, еже сотворити злое свое желание, и бе мост близ монастыря чрез реку Нурму. Святый же обычай имяше всегда посещати на нивах делающих и начасте шествоваше мостом за реку Нурму. Тии же совещавшеся на злое свое дело, и сташа под мостом ждуще святаго, да сотворят злое свое дело. И зряху преподобнаго со множеством людей грядуща на мост, они же от страха крыющеся да не ощутит их святый. Блаженный же преходя их един, онем же зрящим, яко людие мнози с ним. И вослед его идущи на порученное има дело, и видяху старца Корнилиа единаго пришедшаго, и почюдишася. И сие не единою, но и трищи творяху, и тоже видяху, Богу хранящу своего угодника молитвами Пречистыя Богородицы. Последи же нападе на них ужас и страх велии, и убоявшеся божия суда, и свое согрешение познавше, и видяще незлобие святаго, и припадоша к нему со слезами и покаяшеся, и исповедаша бывшая вся поряду. Блаженный же поучи их от святых писании, и прочее утеши их и прости им грех, и отпусти с любовию, которогождо их на свою службу. Последи же тии два брата со всяцем тщанием послушание имяху к наставнику своему и молитвами его избавлени быша ненависти злыя. Сия же мы от самого отца нашего слышахом, и писанию предахом.
О позднохождэнии святаго
Обычай же имяше преподобный в вечер глубок молком келий обходити, слушая кто что творяще. Аще киих ощущаше от братии на молитве стоящих, или книги почитающих, или во псалмех поучающихся, или плачющихся о гресех своих, или поклоны творящих, о сих благода-ряше Бога, молком отхождаше. Аще ли кия обреташе беседующих и глаголющих не на ползу души и празднословящих, о сих негодоваше и ударяя персты во оконце, сим назнаменуя свой приход.
О поучении святаго
Многажды же егда поучаше братию на соборе, воспоминаше им и о сем. К тому тако не творити, а не на имя коегождо обличаше, но кождо ведый себе такова суща, мняше его ради поучение се бысть и обличение, глаголя им: “Чада, елика есть крепость ваша, подвизайтеся о своем спасении прежде, да же не приидет время, в неже хощем неутешно плакати, аще ныне обленимся.” Они же, припадающе к ногам святаго, прощения прошаху. Он же, наказав ихдоволно, прости их, аще виде киих ожестевающихся епитемиею тех воздражаше. И тако божиею помощию и Пречистыя Богородицы и молитвами преподобнаго Корнилиа братия исправляхуся, плод приношаху благопотребен, боящеся да не к тому поношаеми будут от святаго.
О даянии милостыни на праздники
Иногдаже празднику пришедшуАнтониа великаго память, обычай же имяше старец Корнилие на праздники Введения Пречистыя Богородицы и преподобнаго Антония нищим даяти милостыню по рукам коемуждо по дензе, к сим же и по просвире, и хлебом оделяше. Бог же хотяше искусити веру раба своего, оскудению бывшу велию в монастыри, и приспевшу празднику Антония Великаго, нищим же по обычаю собравшимся множеству в навечери праздника. Блаженному же неимущу милостыня что дати им, и о сем благодаря и моляшеся господу Богу и Пречистой его Матери и преподобному Антонию Великому, не презрети моления его, но послати милость свою на братию свою на нищих. Утру же бывшу освитающудни прииде от самодержавнаго государя великаго князя Василиа Иоанновича всеа России посланник и подаст святому от государя, повелевая молити Бога и Пречистую его Матерь и великих чудотворцев о его здравии и о его великой княгине Елене, и милостыню вдаст двадесять рублев с рублем. Блаженный же сия приим и благода-ряше господа Бога и Пречистую его Матерь и преподобнаго Антония Великаго, не презряща моления его. И молебная сотвори за государя и милостынею нищих с любовию одели, яко от бога посланная их ради. Мы же сие видехом скорое божие посещение и неуклонную святаго веру, и прославихом Бога, и сие писанию предахом.
О гладе
Некогда же гладу превелику належащу на Вологде и в пределех вологодских. Толма дорого цениша рожь, по рублю четверть и свыше, но и тою великою ценою едва обретаху купити. И в то гладное время мнози прихождаху от многих стран в дом Пречистыя страннии и нищий, и окрест ту живущий. Удручимый от глада того превеликаго, отец же наш Корнилие всем подаваше без оскудения пищу и милостыню по вся дни. И мнози приношаху младенцы своя и пометаху под стенами монастыря. Святый же всех приемля и отсылаше кдетем на дворец, и тамо учрежаху их покоем всяким. И в то нужное время Пречистыя обитель не оскуде-
ваше, наипаче множашеся потребных в монастыри молитвами Пресвя-тыя Богородицы и преподобнаго Антония и отца нашего Корнилиа.
О видении святаго
Память творящу блаженному Корнилию преподобнаго Антониа Великаго нищих множество собравшихся, и по обычаю ему делящу иже милостынею своею рукою по просвире и по дензе, к сим же хлеб и колачи. Нецый же от нищих не единою, но и вторицею взимаху , ин же и до пяти крат взят. Святому же Корнилию незрящу на лица, но токмо руку простершему даяше, приставницы же видевше взявших множае, поведаша блаженному. Он же глаголаше: “Не дейте их, того бо ради пришли.” Дню же к вечеру преклонившуся, и по соборном пении в вечер глубок стояшу святому на обычном своем правиле, и седе на лавицы мало ногами опочинути, и сведен бысть в сон тонок, и зрит пришедша к нему старца святолепна сединами украшена во образе Антониа Великаго и емша его за руку и рече: “Корнилие, гряди по мне.” И изведе и на некое поле ровно и показа ему на единой стране поля просфоры, а на друзей колачи и рече ему: “Се твои просфоры и колачи, их же дал еси нищим, простри одеяния своя.” Ему же простершу, и нача класти в припол просфоры и колачи, дондеже начаша пресыпатися от преиспол-нения. Он же возбнув и в себе быв, и дивихся чюдному видению, и поведаше нам сам сия старец Корнилие со слезами и заповеда нам: не токмо при своём животе творити милостыню нескудно нищим, но и по своем преставлении. Мы же написахом сия памяти ради, аще будет богоугодно житие старца Корнилиа, да и сия незабвена буди.
О уставе монастырстем и о молитве братстей
По сих же блаженный Корнилие устави всем братиям сущим в ручных делех и во всех службах, не празднословити, но песнословити или молитву Иисусову глаголати непрестанно, и благодарити Бога, и любовь имети между собою, такоже и приходящая приимати, и наказоваше жити по преданию и по правилом святых отец, и всех поучаше страху божию и трудолюбию, яко праздну никому же не быти, и своея воли не творити никакоже, но вся с повелением настоящаго. И сей устав положи нерушим не точию внутрь обители седящим и делающим что, но и вне где служащим, или жито из житницы проносящим, или муку с мелницы, или иная кая служащим, вся сия не празднословием, но с пением и с молитвою. Да благодарится Бог питаяй и окормляя нас, и дело благословится и душа освятится, елико же множашеся стадо его толико и подвигом болшим приимашеся, воздержанию присному прилежа, и бдению вящшему и посту протяженному, и вкратце рещи, вся жизнь его пост бяше. Желание же присно имея упразднитися наедине безмолствовати, еже есть мати безгрешию, и написа 15 глав о церковном благочинии и о соборней молитве, и о благоговеинстве, и о благочинии трапезном, и о пищи, и о питии, и о одеждах, и о обущах, и непросити
кому что от мирских, и не имети особнаго стяжания, и не взимати нигде же что без благословения игумена, или и не приходити безвременно в трапезу и в служебныя келий, и в купе братиям сходящимся на дело, творити с молчанием и с молитвою, и из монастыря нигде же без благословения не исходити, и не приимати братии милостыни по рукам себе ни от кого же, и не быти питию пиянственному ни от кого же, и о прочем благочинии монастырстем.
Сия писания предаст братии, заповедая им, яко да ничтоже разорится от законоположения общаго жития по написанию его, много бо велми печашеся о сем. И устроив монастырь всякими потребами душевными и телесными ко спасению иноческаго жительства, к сим же и пруды ископа велиа, посих же призывает весь лик своея ограды ученик своих, и избра от них дванадесять и тем вручает монастырское строение и с ними всей братии, и прося отпущения наедине безмолствовати. Братия же с плачем мОляху блаженнаго, еже не оставити их сирых, но пребывати с ними. Он же утешая их, глаголаше: “Братия, аще телом кроме вас буду, а душою всегда с вами есмь.”
О отшествии блаженнаго в пустыню
Блаженный же Корнилие взят мало от братии и отиде в даль от манастыря яко, 70 поприщ на место пусто зовомо Сурское езеро, на лес близ Костромы реки. И ту начать со всяцем тщанием и усердием господеви работати в безмолвии. Братия же совет сотвориша, послаша некиих от братии ко отцу своему Корнилию в пустыню молити его, дабы не оставил их чад своих сирых яже собра. Святый же отречеся им. Они же отидоша ничтоже получивше, святому же старцу безмолствуюшу в пустыни.
О шествии великаго князя в Кирилов молитися
Тоя же зимы изволися великому князю Василию Иоанновичювсея России шествовати на Бело езеро в Кириллов и с великою княгинею Еленою молити Господа Бога и Пречистую Богородицу и великаго чюдотворца Кирилла, во еже датися има чадородию в наследие роду самодержавства их всеа России, и мимо грядый прииде во обитель Пречистыя Корнилиева монастыря, старцу же Корнилию не сущу во обители. Великодержавный же государь и с великою княгинею долгов-ремене помолися Пресвятей Богородице и великому Антонию, молеб-ная совершивше. Последи же вопрошаше братию, коея ради вины отиде Корнилие в пустыню, благочестивым ли помыслом или некоего ради неустроения, рцыте ми. Братия же глаголаше: “Любве ради Христовы отиде.” И молиша самодержавнаго государя со слезами понудити отца нашего, дабы не оставил нас сирых, нетерпяху бо таковаго пастыря и учителя своего лишаеми быти. Самодержавный же послуша моления и слез их и абие посла своего посланника в пустыню к старцу Корнилию, повеле ему быти в монастырь свой и ждати себе, дондеже возвратитися
из Кириллова. Сам же даде братии милостыню доволну, и учредив брашны, и пойде в Кирилов и тамо ему молебная совершившу. И паки возвратися князь великий з Бела езера из Кирилова. Отец же наш Корнилие по повелению великаго князя прииде ис пустыни в монастырь свой и взят с собою трех братов, и срете великодержавнаго государя на Вологде, и поклонися ему до земля. Князь же великий велми радоваше-ся о пришествии старца Корнилиа, и много почте его, и беседова с ним о полезных доволно, и моли его о сем, да молит Господа Бога и Пречистую его Матерь, во еже дароватися ему чадородию в наследие роду, и отпусти его в монастырь. Последи же и сам касашеся путному шествию в царствующий град Москву, и прииде второе в Корнилиев монастырь и помолися Пречистей Богородице на мног час. Потом же глагола отцу нашему Корнилию, еже не оставити братии, но пребывати с ними в монастыри своем, яже многим трудом собрал еси, глаголя блаженный старец Корнилие, предлагая старость и немощь и не могущу ему строити монастыря, глаголя и моляше великого князя, да отпустит его в пустыню плакатися грех своих. Благочестивый же князь великий ведый известно старца Корнилиа, добродетелное и трудолюбное его житие, и положи на воли его, бе бо милостив и зело почиташе его, и даст ему милостыню доволну и отпусти его в пустыню, и тамо повеле ему и сущим с ним давати на пропитание хлеб оброчной. В монастырь же братии вдаст 50 рублев, повеле церковь Антония Великаго с трапезою деками обити. И приим благословение от старца Корнилиа, и прочее касашеся пути. Последи же и Корнилие отиде в пустыню и тамо пребываше безмолствуя и моля Господа Бога и Пречистую его Матерь и великих чудотворцев за государя самодержавнаго великаго князя Василиа Иоанновича всеа России и великую княгиню Елену, во еже датися има чадородию в наследие роду самодержавства их всеа России, и за вся православныя князи, и христолюбивое воинство, и за вся христиане. И пребываше в пустыни, и собрашася к нему братии числом шесть, и постави келейца мало и потом помысли создати церковь малу, и о сем моляшеся Господу Богу, да устроит вещь, яко же годе имени его святому.
О шествии святаго ис пустыни в царствующий град Москву
Поим с собою единаго брата и поиде в пресловущии град Москву молити самодержавнаго всеа России преосвященнаго митрополита, да повелят ему создати церковь в пустыни. В тоже время боголюбивому князю Василию Иоанновичю всеа России самодержцу родися сын и наречен бысть во святом крещении князь Иоанн, и о сем велми радова-шеся радостию великою зело, и благодарение возсылая Богу и Пречистой его Матери и великим чудотворцем, зане яко услыша Господь молитву его и не презре моления его. И от радости тоя великия прииде в Сергиев манастырь помолитися живоначальной Троицы и великому чюдотворцу Сергию. Блаженному же Корнилию приспевшу ис пустыни в
то время ту и поклонися самодержавному государю до земля. Князь же великий рад бысть о пришествии старца Корнилия и почте его велми, и приим благословение от него, и посылаше его прежде себе в царствующий град Москву, да шед благословит и великую княгиню и Богом дарованнаго има сына, и сему бывшу. Великому же князю помолившуся живоначальней Троице и великому чюдотворцу Сергию и возвратившу же ся в пресловущии град Москву, и призваше блаженнаго Корнилиа всегда на обед к себе, и на дом потребная посылая ему доволно по вся дни. Он же сия нищим и маломощным подавая тай многовремянно же учреждаем и любим самодержавным. Святому же старцу Корнилию молящу боголюбиваго великаго князя, да повелит ему создати церковь в пустыни. Князь же великий помяну моление и слезы братии, еже моляху его в монастыри, понудити отца их Корнилиа пребывати в монастыри с ними, и сего ради не повеле ему в пустыни церкви созидати, но понуждаше и с прилежанием, дабы был в прежних своих трудех во своем монастыри со ученики своими. Отцу же нашему тяшко сие вменися, желание бо имяше еже наедине безмолствовати и избежа-ти житейских молв и славы человеческия.
О взыскании святаго
Скрыся блаженный и пребываше у некоего христолюбца в тайне месте. Князь же великий посла на взыскание святаго по всему царствующему граду. Святый же виде о себе взыскание велие, и отиде в пречестную обитель живоначальныя Троицы Сергиева монастыря, и тамо прият бысть от игумена и братии с любовию, и пребываше безмолствуя.Слышано же бысть Великому князю, яко Корнилие безмол-ствует в Сергиеве монастыри, и преста от взыскания святаго. И последи приспевшу празднику святых Богоявлении, и прииде боголюбивый князь великий в Сергиев монастырь живоначальныя Троицы помолитися, отцу же нашему ту безмолствующу.
О понуждении святаго в свой монастырь
Не подобает светилнику под спудом крытися, князь же великий паки понуждаше святаго с великим прилежанием ити в свой монастырь. Старецже Корнилие виде великое прилежание великаго князя, и положи на волий божий, иповинусяему. Государь же рад бысть, и в той час посла в Корнилиев монастырь повеле старцем быти, да молят старца Корнилиа еже не оставити их, и не по мнозех днех приидоша старцы, и молиша отца своего со слезами, иже не оставити их. Корнилие же с ними иде ко государю и прося отпущения в монастырь свой. Обрадован же благочестивый князь великий о сем бысть.
О селех и деревнях и о грамоте тарханной
И глагола князь великий святому: “Слышах отче, яко отнележе сотвори монастырь не имееши сел и деревень, но иже требуеши, проси и дам ти.” Корнилие же не восхоте просити ничто же, но токмо моли его
дати близ монастыря земли мало с лесом. “Да от поту лица своего ем, — глаголя, — хлеб свой.” Князь же великий землю и с лесом и елико привнидоша близ монастыря, деревни и починки и со всяцем угодием вдаст, рек сице, глаголя: “Аще у них кто в тех деревнях и починках учнут жительствовати, священницы и диакони, и христиане не надо бе им моя великого князя дань всяческая. И никоторый побирчии у них не берет ничто же и с чернию не тянут во всякия разметы, понеже дал есми сие в дом Введения Пречистыя старцу Корнилию з братиею.” И сия изрекши и писанием утверди с красною печатию вдаст старцу Корнилию, рек глаголя:“ Аще дам писание кому на иных, а на се иное не будет.“ И приим благословение от старца Корнилиа и отпусти его с миром, глаголя:
“Моли, отче, Бога о нашем здравии.” Вдаст же ему боголюбец князь великий вся еже путеви потребная, к сим же и милостыню доволну.
О приществии святаго в монастырь свой
И тако Богом храним и добре наставляем прииде во обитель Пречистыя, ю же сам созда. Братия же сретоша его вне монастыря и сице радовахуся ему, яко же ангелу божию, и овии убо от них руце его лобзаху, овии же ногам касахуся, овии же ризам. Отец же видев благоразумнии суща, веселяшеся о них, и к ним показуя отеческую свою любовь, всех объимаше и всех лобызаше, и всех благословляше.
Игумен Кассиан
Егда же бысь отец наш Корнилие в пустыни, тогда братиа по благословению старца Корнилиа поставиша себе игумена именем Кас-сиана. Егда же святый старец прииде во обитель, игумен же Кассиан устыдеся отца, остави игуменство и пребываше в послушании старцу. Отец же наш Корнилие многа моления со слезами ко Господу Богу сотворь и Пречистой Богоматери, и касашеся первых своих трудов, лес секий и нивы насевая, да не токмо сами свой хлеб ядят, но да неимущих питают.
О запалении хврастия
Иногда же преподобному отцу нашему Корнилию з братиею посеченный лес отребляющу, и хврастие воедино собирающе, и от труда братиам почити хотящим. Блаженному же собранное хврастие наченшу жещи и окружи его пламень з дымом отвсюду, и неведяше како гонзнути исреды огня. И божиим посещением вскоре прииде от запада ветр велии, и развея пламен з дымом, и учини путь яко улицу, святому же изшедшу из среды огня невредиму. И благодари Бога и Пречистую его матерь. И сия нам поведа, братиям же чюдящимся, глаголя им преподобный: “Любяй Бога и храняй заповеди его, не токмо от чюственнаго огня избавит ны, но и от будущаго хотящаго грешники поясти.”
Вопрос
Нецый же от братии вопросиша его: “Что есть любовь, отче, и кая заповедь глаголеши хранити?”
Ответ
Глаголя им святый, внегда приступи ко Господу законник учителю рцы: “Кая заповедь первая в законе есть?” и Господь отвещавает, — возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоея, и от всея крепости твоея, и от всея мысли твоея.” Сия есть первая и великая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюбиша искренняго, яко сам себе. В сих двоих заповедех весь закон и пророцы висят.
О поучении святаго к братии
И всех моля и наказуя сице, глаголя: “Братиа, прежде всего подобает постризающимся в начале не имети своея воли, нодержати послушание и смиренную мудрость, и ждати присно часа смертнаго, всегда моляще-ся. Такожде и телесне подобает трудитися чернцем, паче же юным всегда праздным не быти и не послабляти, ни стужати си в трудех, ниже от мира сего отходяще мним велико что отмещуще. Сия подобает нам помышляти, яко аще ныне пребывании мирских не оставим, но последи же умирающе всяко оставим же, аще и не хощем. И того ради тленная оставляем да царство небесное приимем, тем же подвизающеся не стужаем си, ни ленимся, но по вси дни пребываем в воздержании, не точна бо суть страдания нынешняго времени, хотящий славе быти подвизающимся.”
Сам же старец Корнилие в лощении и бдении выну, и в молитве со слезами, велми трудя себе, и николи же уста его праздна бываху от славословия божия, но всегда без лености молящеся, аще бо и в старость пришед, но никако же от божественных служеб подобающих ему ослабе, но елико множашеся старость, толико наипаче усердие его еже в дело божие, и теплейше божественных подвиг и усерднейше касашеся в немятежне безмолвии ум соблюдая. Бяше же нагим одежда, печалным утешение, бедным помогая и от напастей изимая, болных молитвою исцеляя, должным искупление подавая, и сам долги отпущая, грешным на покаяние учитель, и всем хотя спастися, и от насилия злых судии бедою одержимых, но токмо словом избавляя. Иногда же и отай братии милостыню подая убогим, дабы роптанием братиа мзды не погубили, сам же худость ризную толику любя, яко един от убогих. Брат некий именем Закхей прииде ко преподобному нося на себе мантию лыком вязану, моля святаго Корнилиа да повелит ему изменити на лучшую. Он же с себе сняв мантию даст Закхееви, а его вязаную лыком на себе возложи и много время в ней ходи.
Особнаго же стяжания заповеда еже никому же свое что отнюд имети, ниже глаголати: “Се есть мое, оно же твое, но вся обща имети и сим довлетися.” Тако же кроме трапезы в келиях пища и пития не имети никому же, разве немощных. На трапезе же седети всем на своих местех с молчанием в себе молящеся, такожде и ис трапезы кождо отходит в свою келию, имея во устех псалом или молитву Иисусову. Хранити же очи от зрения неподобнаго, такожде и уши от слышания яже не суть на
ползу, языкже от празднословия, якоже Господь рече: “За всяк празден глагол Дати ответ Богу в день судный.” Сердце же хранити, елика сила умною молитвою от скверных помысл, яко же рече: “От сердца исходят помышления злая, и та суть сквернящая человека.” Тем же, братие, аще кии помысл нечист от общаго всех врага нанесется, не обленитеся помолитеся к Богу прилежно, и постом и молитвою, бдением же и слезами, еже наедине вскоре изгоняти тощне подвизающеся. Таже и руки хранити от дерзости и лихоимства, ноги же наши научим ходити правым путем позаповедем господним, не уклоняющеся ни надесно, ни налево, но царским шествуем покаяния в пути спасеныя. К сим же поучаше: пития, в нем же есть пиянство, веема никако же в монастыри обреташися повеле, то бо есть, рече, родителница всякой злобе, да не Бога, рече, прогневаете, не токмо своя душы погибели предающе, но яко и ины многи соблажняюще, може истязами будете, и клятву и горе приобрящете, горе бо, рече, человеку тому, им же соблазн приходит. И тако блаженный сим уставом главу змиеву пиянства отреза. Аще ли кто иметь нечто от общаго жития и чина разоряти, прочее из монастыря изгонити таковаго, яко да и прочая братия страх имут, не преступати законоположения и с-зоея воли не имети, но подражати жития святых отец и пребывати в безмолвии немятежно, внимающе рукоделию и молитвам и труждатися по еже по бозе в злострадании, потщевающеся кождо на службу свою вси купно, во всех мирно пребывающе, друг друга честию болша себе творяще, и аще тако во страсе божий пребудете, то не лишит Господь всех благих места сего, и не имать недостатка быти в месте сем святем, аще благочестно поживете зде со страхом и трепетом свое спасение содевающе, и тако убо богоугодне живуще и зде ублажени будете и вечная благая приимите. Сия убо вся положим, братиа, в сердцых наших и сохранити подщимся, да не будут нам во осуждении словеса в день суда, но молю вы, братие, аз недостойный, поживите в братолюбии и смирении, в кротости, покоряющеся брат брату, и любовь имейте со истиною и мир от сердца, и Бог мира да будет с вами, и той да сохранит вы и утвердит в любви его молитвами Преславныя Богородицы и преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антониа Великаго и всех святых. Аминь.
О отшествии святаго в Кирилов монастырь
По сих же блаженный Корнилие виде себе старостию прекланяема и недугом отягчаваема, и концу приближающася, братии же число прибы-вающа и требующе поучения от него, и любимое ему безмолвие пресецаху, и молитвам и слезам спону творящим, и смертное поучение забавляющим, святый же старец ино ничтоже помышляя, разве смерть. И всего человеческаго сожития ошаятися, оставль монастырь и все строение, и отиде во свое пострижение в Кирилов монастырь, и приять бысть тамо от игумена и всея братии с великою любовию. И затворися ту в келий, да скончает течение духовнаго подвига, но аще он сице
сотвори, Бог же о нем лучшая промышляет, да его монастыри мощи его положены будут. Ученицы же его послаша братии старейших пяти с великим молением ко отцу своему, дабы их не оставил сирых, яко овцы неимущих пастыря и молим бывает ими, да возвратився во своем монастыри безмолствует. Он же не хотяше послушати их, яко видеша непреклонна его к ним, молят убо игумена и старцов пречестныя тоя обители, еже способствовати им и молити старца Корнилиа, да возвратится в дом Пречистыя во свою ограду. Игумен же и старцы молиша преподобнаго утешити братию, да не како стужив вси разыдутся. Блаженный же не моги преслушатися их, рек им глаголя: “Поставите себе игумена и аз возвращуся к вам”. “Нарцы,отче, имя его же хощеши,” — и глагола им: “Лаврентий да будет игумен, ведый его известно, яко велика в добродетелех и разсудителна суща в духовних и житейских, и могущу ему строити монастырь.” Они же слышавше от святаго и отидоша в монастырь, и поведаша братии, яко блаженный глаголет:
“Аще не будет у вас Лаврентие игумен, то ни аз возвращуся к вам.”
О возвращении святаго ис Кирилова в монастырь свой
Братия же едва умолиша Лаврентия и поставиша его игуменом. Ученик же блаженнаго игумен Лаврентие сотвори з братиею и иде в Кирилов ко преподобному, и моли его много, еже не оставити их чад своих сирых. Блаженный же не презре моления и слез ученик своих, паче же игумена Лаврентиа, возвратися в дом Введения Пречистыя и преподобнаго Антония Великаго во ограду свою, иде же прежде Богом наставлен бысть и Пречистая Богородица изводи. Ученицы же его с великою радостию прияша его честно.
О вручении монастыря игумену Лаврентию з братиею и о без
молвии святаго
Святый же пришед в монастырь свой и вручает монастырь и строение монастырское игумену Лаврентию и всей братии учеником своим. Сам же крайнее безмолвие любомудрствовати начат и затворяшеся в келий, и пребывая в безмолвии, подвизаяся постом и молитвами, и ничто же земнаго в себе помышляя, ниже к тому о строении монастырстем печашеся и весь ум к Богу простирая, помышляя от союза телеснаго разрешении, ведый бо известно от божественных писаний, яко велие бывает истязание от духов воздушных во время разлучения душам от тела не токмо ленивым, но и подвижником. Сего ради плачася день и нощь, проливая слезы непрестанно, и ничтоже от правила остави, и на соборном пении всегда обреташеся.
О нашествии татар
Егда же блаженному Корнилию безмолствующу, и божиим попущением грех ради наших, бысть нашествие безбожных татар, и многа места плениша, даже и до вологодских предел доидоша. И от нашествия
поганых, православнии не токмо мирская чад, но и вси монастыри разбегошася. Братия же сия поведаша блаженному, он же глаголя им:
“Сотворим человеческая, бежим и мы, да не в гордость вменится нам, аще и не бежим седяще зде избудем, но тщеславнаго беса не избудем, несть бо добро кому самому вметатися в беду, яко же Христос от Ирода телесне бежа во Египет, иже вся могии, да накажутся и друзии невме-татися в напасти.” Тако и блаженный сотвори, уклонися в белоезерския пределы на Ухтому и тамо моляшеся Господу Богу и Пречистой его Матери о тишине и о умирении всего мира, и о сохранении обители его. Безбожнии же татарове окрест ту многия места и честныя обители пожгоша, и множество православных в плен поимаша, и по языком устремишася во обитель Пречистыя Корнилиева монастыря, и приидо-ша близ монастыря на поле, и показася им обитель Пречистая, яко град велик, окрест же его множество вой вооруженных на брань. Они же видевше сие начаша водящих их избивати, глаголюще: “Яко на град к людем приведосте нас.” И устрашишася страхом велиим отбегоша. И тако помощию Пречистыя и молитвами святаго сохранена бысть обитель его. Слышано же бысть блаженному Корнилию, яко безбожнии татарове отидоша, и возвратися во обитель свою. Мнози же пленнии избегоша из руку поганых татар и сия поведаша игумену Лаврентию. Мы же слышавше от него и писанию предахом.
Сия при животе преподобнаго отца нашего Корнилиа бывшая
чудеса
Брат именем Иев, и некто зубы угрызну перст руки его, и начя люте болети, и много врачеваху и не успеша ничто же, и последи прииде ко преподобному Корнилию, ему же стоящу на обычном своем правиле, и показа ему руку свою зелне болящу. Корнилие же возре на язву и сотвори молитву о нем. И в той час облегча болезнь и бысть рука его здрава молитвами святаго.
Человек монастырский именем Василие послан бысть от святаго на орудие некое и тамо некто уязви его ножем, и принесоша его в монастырь еле жива, близ смерти, и поведаша о нем Корнилию. Святый же повеле его священнику поновити, и последи прииде сам Корнилие посетити болящаго, и виде язвы на нем, и ткну его в язву перстом своим и отиде. Болный же рыкну и содрогнувся, и бысть здрав. И паки прииде священник посетити болящаго, и обрете его здрава, и вопроси его: “Что ти бысть?” Василие же поведа рече: “Корнилие мя исцели.” И наутрие с протчими на дело изыде, благодаря Бога и блаженнаго Корнилиа.
Потреба же есть и се сказати о составлении монастыря от ученика блаженнаго Генадиа именем. Сей убо юн сый возрастом прииде ко блаженному отцу в манастырь, иноческаго жития сподобляется от него. И многа лета пребыв у него в совершенном послушании, всякими добродетелми украшен сый, тем и святый зело любляше его ради
добраго благаго его произволения и цветущих в нем добродетелей, и моляше Бога о нем отец, еже совершити ему добре течение. И по многих летех сей убо Генадий желанием побеждаем, еже наедине безмолство-вати. Святый же прежде отшествия его ко Господу впаде в болезнь, и повеле преже реченному Генадию служити у себе. Он же обрет время открывает свою мысль и молит преподобнаго,глаголя: “Отче святый, издавна душа моя желает наедине безмолствовати, благослови мя убо после твоего живота в пустыни твоей пребывати.” Отвеща старец рече ему: “Не можеши места того строити без книжну ти сущу.” Он же со слезами начат глаголати: “Отче честный, аз не строити желаю, но грехов своих плакати, благослови мя убо, отче.” Виде же святый, яко с верою просит, благослови его рече: “Господь Бог и Спас наш Иисус Христос с тобою и Пречистая Богородица помощница ти буди, и место то воздвигнется, и ты от мног познан будеши.” И по преставлении святаго, и по благословению игумена отиде Генадие в пустыню, и милостию всеми-лостиваго Спаса и помощию Пречистыя и молитвами старца Корнилиа созда монастырь чуден.
О болезни святаго
Корнилию же паки безмолствующу и от премногия старости и множайших трудов телесней крепости изнемогши, и впаде блаженный в болезнь огнем обият бысть, иже душею крепкий, благодаря Бога терпя-ше крепце, и всего человеческаго сожития ошаяся в молитве же и внимании к Богу ум свой имея, зрителное очищая, и свет божественнаго разума собирая в сердце своем, и чистотою сего созерцая славу Господню, тем сосуд избран бысть Святому Духу. И по малех днех изнемогающу блаженному, и разуме конечно свое отхождение, и к концу уже приближающуся, призывает к себе игумена Лаврентиа и всю братию, и к ним молебная наказания завещавает и свидетеля Бога предлагая им, яко да ничтоже от законоположения общаго жития разорится, много бо велми печашеся о сем.
Поучение святаго последнее к братии
И’сице начат поучати их, глаголя: “Блюдете, братие, и внимайте, заповеди божия сохраняйте и моя предания, яже написах вам своею рукою, держите и сия начасте прочитайте на воспоминание к ползе и на спасение душам. Изряднее же чина церковнаго службу без лености творити со благоговением и умилением. Богови бо подобает со страхом и трепетом служити, а не смехом и шепотом, но со вниманием мнозем и со страхом божиим. Во святей церкви достоит предстояти, яко же на небеси мняти себе стояща, молящеся Богу о своих согрешениих и о умирении всего мира.” И по мнозе наказании приложи сие, глаголя: “Да егда творити память мою, и оставшая останцы братския трапезы сия подавайте братии христове нищим.”
О преставлении святаго
И паки ослабу приимаше от болезни и на соборном пении обреташе-ся, и по Пасце четвертая недели в пяток позна свое конечное отшествие ко Господу, повеле себе вести в церковь на божественную литургию, и совершившейся службе причастися блаженный Святых и Животворящих Тайн. И паки в субботу начат конечно изнемогати телом, иже душею крепкий. Прихождаше бо к нему игумен Лврентий и вся братия, видяху бо его изнемогающа и ко Господу хотяща отити, скорбяще зело, аще бо им мощно от великаго усердия и любве, еже ко святому имуще, соумрети с ним тогда. Глаголаху же неций от ученик его плачущеся: “Понеже, отче, нас оставляеши и ко Господу отходиши, и тебе не сущу с нами, мнози преселницы будем от места сего.” Святый же утешая их, глаголаше: “Не скорбите, братие и чада, уже бо мне приспе время почити о Господе. Предаю же вас Богови итого Пречистой Богоматери, той да сохранит вас от всех искушений лукаваго и ученик мой Лаврентий игумен, сей да будет вам в место, и сего имейте, яко и мене. Сей ваши недостатки исполнит.” — И сия и иная многа утешая их, глаголаше, и о сем моля, да не будет в них никоторыя же раздоры или свары, о сем же бо много и здрав сый печашеся.
Вся же братиа к нему прихождаху, и целоваху его со слезами, и последняго от него благословения просяще. Той же яко чадолюбивый отец, всехоблобызаше, всех миловаше, всем последнее благословение оставляше, и от всех прощения и сам прошаше, и моля их, глаголя:
“И о мне грешнем, господие мои, Бога молите, яко да вашими молитвами получю от Христа Бога милость в день славнаго его пришествия.” И повеле некиим от братии глаголати часы, и канон Иисусов и Пречистой благодарствен канон, акафист, и приложи же и великомученице Екатерине канон. По совершении же правила востав, взем кадилницу с фимиамом и покади святыя иконы и братию всю ту пришедших. И паки возлег о нахождении своем моляся, и никоея же печали имяше, но паче надеждою будущих благ веселяшеся, и святую свою и трудолюбную душу мирно и тихо Господеви предаст, еще молитве во устех его суще. И тако от сущих зде прейде в вечную жизнь. Братиа же тогда лишение отца умилно зряще, учителя отъятие рыдаху, вся болезненна тогда предлежаху. Бяше же лице его видети светло и рещи, яко не умре святый, но спит, понеже непорочно име житие. Преставижеся блаженный Корнилие по Пасце в пятую неделю во время заутрени воскресныя на память святаго священномученика Патрикия Пружскаго. Игумен же Лаврентий со всею братиею того священныя мощи на одре положивше честно, и на своих главах в церковь несоша, со всякою подобающего честию и псалмопением отца провожаху со многими слезами, и мало нечто от печали пременившеся, воскресную службу совершиша.
Слышано же бысть игуменом во окрестных обителех преставление блаженнаго Корнилиа, и наутрия в понеделник снидошася и совершив-
ше божественную литургию. Игумен же Лаврентий з братиею и с прилучившимися игумены надгробное пение со многою честию скончав-ше, и гроб ископавше своима рукама, и землею покрыша многострадал-ное и трудолюбное отца тело близ храма Введения Пречистые в честнем его монастыре, его же многим трудом снискав, лета 7045-го месяца маиа в 19 день добре угасшаго, Богом врученную ему паству и на пажити животныя наставив. Таковии блаженнаго Корнилиа подвиги и исправления, и чюдес дарования и исцеления. Бяше же блаженный Корнилие тогда, егда прииде на место то четыредесяти и единым летом, и пребысть на месте том четыредесять и едино лето и собре множество братии, бе же их яко до девяти десять. Научи же их благочестию и иноческому житию по преданию святых и блаженных и преподобных отец, и за едино лето преставления своего избра от них единаго ученика именем Лаврентиа и игуменом того постави. И поживе всех лет блаженный семьдесят и два лета, в старости совершение преставися к Богу.
О игумене Лаврентии
По преставлении же блаженнаго Корнилиа ученик его игумен Лаврентий з братиею молиша Господа Бога и Пречистую его Матерь и преподобнаго отца Корнилиа на помощ призываху, глаголюще:
“О преблаженне отче Корнилие, аще получил еси дерзновение к Богу, не забуди нас чад своих, еже собрал еси.” По сем же игумен Лаврентий, яко же блаженный Корнилие заповеда ему еще сый жив, тем сей вся елика виде отца своего, собою и делы тшашеся исправити. Поживе же во всяком благочинии и смирении, соблюдая своего житиа любомудрие, доволну преподавая зрящим ползу, и велико опасение и тщание имея-ше, яко да ничтоже разорится от законоположения святых отец и отча предания, воздержаши же во всем зело имеяше, и прочая благая исправления и врученное ему о Христе стадо упасе добре, к вышним подвизатися сотворив, и отца своего блаженнаго Корнилиа предания соблюдая невредима, яко же научен бысть от него, ничтоже разорися им, но тако бяше пребывая в посте и в молитвах, и бдениих безмолствуя. К сим же и мнози книги написа своею рукою, и бяше видети житиа его образ доволен ко извещению того добродетели, понеже смиренная гоняше во всем, к божий любви веема себе издавша, тем же и вся о Христе возможе. Жив же в том добром настоятелстве по преставлении преподобнаго Корнилиа десять лет, ко Господу отиде его’же от юности возлюби, месяца маиа в 16 день.
Многа же чюдеса при животе бывшая блаженнаго Корнилиа и множества ради, иже многими леты бывшее писанию не предашеся. Сия по преставлении мало нечто отчасти написана быша, но токмо да не в конец умолчана будут святаго повести.
По преставлении блаженнаго Корнилиа в четвертое лето прослави Бог своего трудоположника чудесы, от них же и написахом в мале, яже пред нами бывшая.
Чудо1
Некий христианин монастырский, живый близ монастыря Корнилие-ва именем Михаил, зовомый Дубовик, имеяше сына именем Андрея лет двадесяти и пяти. Внезапу найде на него дух нечистый, начат же отрок он несмыслити, отец же позна сына своего несмысляща и тужаше о нем. И помале времени явися страждущему отроку блаженный старец Корни-лие, глагола ему: “Что не божие смыслиши, се бо ти прииде от нахождения бесовскаго и много томим будеши, но иди в дом Пречистыя Богородицы в наш монастырь, будет ти от Бога посещение ради Пречистыя Богородицы, способствуем же ти и мы.” Отрок же он, яко от ужаса начат сказовати отцу своему, поят же отец отрока и приводе его в монастырь Корнилиев, и умоли игумена и братию, да пребудет сын его в монастыри, игумен же повеле пребыти. Нападошаже на него множество бесов, мучаше его и биюще, веляще ему вопити. Он же велиим гласом кричаше, и странны и страшны гласы испущаше, приставницы же его водяще в церковь и ко гробу святаго старца, веляще ему молитися Богу и призывати в помощ старца Корнилиа, многаждый биюще его, дабы молился Богу. Он же преизлиха кричаше и неподобны и хулны и глаголы вещаше, и глаголаше: “Что мя биете, не послушаю вас, ибо множество много людей биют мя люте, не велят ми молитися, глаголю-ще: “аще не послушаеши нас, то убием тя,” — того ради не молюся, да не горце мя уморят.” И пребысть же в монастыри дний яко двадесят велми томим, и помале начать кротитися и умом совершен. И пребысть в монастыри неколико дней, и отиде в дом отца своего, славя Бога и Пречистую его Матерь и блаженнаго старца Корнилиа.
Чюдо 2-е
Иного человека приведоша в монастырь от крестьян монастырских же именем Прокопиа, зовомый Шестак, мучима от духа нечистаго, и не молящася Богу, и не глаголюща ничтоже, но токмо люте разстерзая себе, и нападаше на водящих его, и приведоша его в церков, игумену же со священником и со диаконом о нем поющю молебен, и веляще ему молитися. Оному ж никакоже молящуся, ни глаголющу, водящий же его бияху велми, он же ухвати персты своя во уста своя и грызяше. От церкви же его ведоша едва в келию. И се в нощи видит пришедша к нему старца Корнилиа со крестом и осенивша его крестом и рече к нему: “Прокопие, молися Господу Богу и не будет ти зла от неприязнена духа, и не велю бити тя.” Вскочи же болный он от видения, поведа водящим его, они же возрадовашася и на утреннюю приведоша его в трапезу, бе бо зима. И прииде игумен навестити болящаго, изнемогл бо бе от многа томления бесовскаго, и неядения, и биения, едва сидяше, и виде игумена, вскочи, начать глаголати: “Молю ти ся не вели мя, господине, бити, уже бо молюся Богу, и старец Корнилие бо мя не велел бити.” И сказа игумену како явися ему старец Корнилие и крестом осени его. По заутрении же игумен со всею братиею соборне молебен пет. Человек же он здрав
бысть, и совершенен весь умом, отиде в дом свой радуяся, славя Бога и Пречистую Богородицу и блаженнаго старца Корнилиа.
Чудо 3-е
Ин же человек Тарасие уголских князей крестьянин приводе сына своего, ему же имя Ефрем, боляща в монастырь блаженнаго старца Корнилиа, и не смысляща ничтоже и страшащася. В церкви же игумен молебен пел и повеле его ко гробу вести преподобнаго отца Корнилиа, молитися. Пребысть же отрок он три дни в монастыри, моляся в церкви и у гроба Корнилиева, и бысть здрав и цел умом. И отиде в дом ко отцу своему, славя Бога и Пречистую его Матерь и святаго Корнилиа.
Чудо 4-е
Ин христианин именем Сампсон, живый близ Корнилиева монастыря, и лежа болен огницею и уступи ума, начя несмыслити и уродовати в дому своем, мучим многими бесы, яко же последи сам исповеда нам, глаголя. Приидоша к нему многия бесы и начаша его страшити и глаголати: “Приидут из монастыря многия люди стреляти тебе.” Он же начать износити из клетей своих рухло и меташи посреде двора. И потом шед ввержеся в кладезь и хоте утопитися. И по божию смотрению увиде жена его с плачем воскричала, и стекошася братия его и иныя некия, и едва излекоша его из кладязя и всадиша и на скот, и приведоша его в монастырь Пречистыя честнаго ея Введения, и приводят его в церковь и ко гробу преподобнаго Корнилиа, и с нуждею веляху ему молитися. Он же худе моляшеся, и не многи дни быв в монастыри в собботу пред неделею всех святых сведен бысть в сон тонок. Явися ему блаженный старец Корнилие, нося крест и знаменав его честным крестом, повеле ему востати и молити Господа Бога и Пречистую его Матерь призывати на помощь. Он же возбну от сна и абие в том часе изменися ему разум, и бысть смыслен и начат познавати всех, бе бо прежде не знал никого и поведает разумно, яже виде. Слышавши же вси прославиша Бога и Пречистую его Матерь и преподобнаго отца нашего Корнилия. Человек, же той мало ногами поболе, пребысть некия дни в монастыри, бысть здрав, яко же и прежде, отиде в дом свой, радуяся.
Чудо 5-е
Ино чудо. Инок именем Корнилие прииде из Володимера во обитель Пречистыя Корнилиева монастыря обдержим болезнию зубною два лета. И егда прииде во обитель, начать его люте мучити злее прежняго, яко же ему многи дни ни ясти, ни пити, ни почивати. Лице же его и з главою отекло, яко всем зрящим на него ужасатися, и многих пыташе, аще сведят некое художество ко врачеванию таковыя болезни. Но никто же возможе помощи ему. Прииде ему во ум, понеже слышал от многих, яко у гроба блаженнаго старца Корнилиа мнозии недужны молитвами его исцелишася. Веру приим в сердцы своем и утаився после Ефимона, в вечер глубок прииде ко гробу блаженнаго старца Корнилиа и тамо на
мног час помолися, глаголя: “Преподобие отче Корнилие, имаши дерзновение к Богу, молитвами твоими избави мя от болезни сея.” И тако болезненною душею и сокрушенным сердцем много молився и приложився ко гробу святаго старца, отиде в келию свою томим люте болезнию, и кричаше всю нощь, яко же и брату живущему с ним не могущу терпети вопля его, изыде ис келия. Немощный же брат много томим болезнию седе на лавицы, и абие в той час нападе на него ужас, и явися свет велии в келий его и видит старца Корнилиа с жезлом и глаголюща к нему: “Возлязи на постелю твою, помилует тя Бог.” Немощный же брат отрицашеся, яко немощи ему возлещи болезни ради. Паки же святый старец второе глаголет ему тоже: “ Возлязи и почий мало, помилует тя Бог.” Он же отвещав рече с болезнию ко блаженному старцу: “О отче, видеши лице и главу мою каков оток, како ми мощно приклонитися на постелю.” Святый же третицею рече ему: “Помилует тя Бог, возляги.” — и перстом показуя ему место. Немощный же брат, едва повинуся преподобному старцу Корнилию, приклони главу свою на постелю и в той час нападе на него сон и усне. По мале же времени начаша заутреннюю клепати, приидекнемубратживыйсним, начать его будити, поношая ему, глаголя: “Всю нощь не даде почити и ныне заутреннюю клеплют, ты же спиши.” Немощный же брат, услыша поношение брата, и воста от ложа своего и начать руками осязати лице свое, и зубы, и главу, и никако же ощущаше болезни, и иде в церковь на пение, радуяся, и от того часа нестужи ему болезнь зубная. И сие от него слышавше вси, прославихом Бога и угодника его святаго старца Корнилиа.
Чудо 6-е
Ниже сие чюдо умолчано буди. Некий христианин именем Мокий, живый близ монастыря, и сему отъятся нога, и многи дни не могий со отдра востати, и немощи ради в нощи не почиваше. И начать молитися, глаголя: “Святый Корнилие, молитвами твоими избави мя от недуга сего, и даруй здравие ногам, да шед поклонюся гробу твоему, и принесу ти в дар по силе своей.” И тако на мног час помолися с верою от всея души, и тоя нощи бысть здрав. И наутрия востав приде во обитель Пречистыя, и поклонися гробу преподобнаго старца Корнилиа, и принесе дар, яже обещася, и сие нам исповеда. И мы, слышавше от него, прославихом Бога и угодника его преподобнаго старца Корнилиа.
Чудо 7-е
Ин человек Уголских князей крестьянин именем Симеон, и внезапу нападе на него дух нечистый, и мучим много время. И сердоболя вязаху его ужи и бияху велми, и духу нечистому болма нападающу на нь, и последи же приведоша его в дом Пречистыя, и у гроба преподобнаго Корнилиа молебен певше, и водою того святивше, и в том часе здрав бысть. Сердоболя же пойдоша с ним в дом свой радующеся, и недалече отшедшема има, и паки нападе на него дух нечистый, и нача мучити
горше перваго. И сердоболя паки возвратишася с ним в монастырь, и у гроба блаженнаго веляще ему молитися Господу Богу и Пречистой его Матери, и святаго призывати на помощь, и держаху связана некия дни, и едва прииде в чювство, и молящеся пребыти в монастыри неисходну и прияти иноческий образ, и оттоле бысть здрав. И моли игумена и братию тоя обители, и возложиша на нь иноческий образ, и нарекоша имя ему Серапион. И от того времени нестужи ему дух нечистый. И бе инок искусен подвизаяся во всех службах монастырских, и моля Господа Бога и Пречистую его Матерь и преподобнаго отца нашего Корнилиа.
Чудо 8-е
Бе некто белоезерских детей боярских шествоваше на цареву вели-каго князя службу в Казань и на пути иступи ума, и приведоша его во обитель Пречистыя. И у гроба преподобнаго отца нашего Корнилиа помолися Господу Богу и Пречистой его Матери, и святаго на помощь призывая, и в том часе бысть здрав и умом совершен, и пребысть в монастыри день той и нощь, и наутрия паки молебная совершив, и моляся Господу Богу, призывая отца нашего Корнилиа на помощь, и взем благословение от игумена, и отиде в путь свой, радуяся. Неций же от братии тоя обители сия в памяти держаху. отечества же и имени не ведуще за прохождение многих лет.
Чюдо 9
Близ обители Пречистыя весь зовома Комела. На ней же бысть пожалован от самодержавнаго всеа России князь Симеон Иванович Гогарин, и впаде в болезнь, и повеле себе вести во обитель Пречистыя Корнилиева монастыря. И помолися Господу Богу и Пречистыя его Матери, и блаженнаго Корнилиа на помощь призывая, и приложися ко гробу его, и бысть здрав. И оттоле начать велию веру держати, и милостыню даст в дом Пречистые, и положи на гроб блаженнаго Корнилиа покров камчат, и свещу местную у гроба постави. Игумен же повеле свещу ту вжигати у гроба святаго на Воскресения Христова, и на праздники владычни, и на память великих святых. И сему тако твориму на много время. И последи бысть во обители оскудение воском, и оставиша свещу ту у гроба святаго не вжигаему. И по преставлении преподобнаго отца нашего Корнилиа во осмое на десять лето сентября во осмый день на Рождество Пресвятыя Богородицы в день недельный, свеща та у гроба святаго о себе возжеся. И мимо шедшу казначею именем Иову на первом часу дни, и виде у гроба блаженнаго Корнилиа свеща горяше, прежде бе за много время не вжигаема, и страхом обият бысть, и шед поведа игумену и братии. Игумен же веры неять, помысли некто возже, и повеле испытати всея братии, кто свещу возже, и никто же обретеся вжигаяй. Келарь же и казначей и некия от братии текоста скоро ко гробу святаго и видевше свещу горящу, и сотвориша достойно, и молитву совершивше, и помолишася со слезами, и свеща пред ними
о себе угасе на втором часу дни. Они же шедше поведаша сие игумену, яже видеша. Игумен же повеле звонити, и снидошася ко гробу святаго вся братиа, и молебен певше, и воду освятивше, и на мног час помолив-шеся, славу возсылая Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому славимому в Троицы, творящему таковая чюдеса своими угодники.
Чюдо 10-е
И последи того же лета, мимошедшим осмим месяцем, по Пасце в девятый пяток, июня в пятый день, во время вечерни таже свеща возжеся о себе второе у гроба Корнилиева, и снидошася вся братиа и испыташа всех, кто возже свещу, и никто же обретеся. И помолишася долговре-менне и панихиду соборне певше над гробом преподобнаго отца Корнилиа, и оттого времени над предреченныя праздники начаша свещу ту возжигати.
Чюдо 11-е
Ино чюдо новое и преславное, велми полезно, о явлении святаго. Потреба убо есть нам и се сказати, и радостно поведаши бывшее чюдо во обители преподобнаго Корнилиа. Бысть же в лето седмь тысящь во сто пятдесят в девятом году месяца августа в 1 день. Человек некий ис предела града Вологды, Обнорския веси деревня зовома Кебаш, именем Сергий. Неким забвением изступи ума своего, явижеся нощию за монастырем и хождаше около монастыря, и кричаше велиим гласом, глаголя Корнилиа именуя, рекше: “Корнилие, Корнилие.” И паки множество глаголаху, и именуя имя святаго, и приходя ко святым вратам руками во врата бияше, тоже Корнилиа именуя. И паки обхождаше, и абие слышавше за манастырем окрест живущий в келиях в монастыре -тии служебницы глас его и вопль велии, и зело устрашилися. И изыдоша из келей своих, идяху к нему, и видеша его видением страшна, и нага суща и проста умом, не имяше же на себе ни единой ризы, и взяша его и начаша вопрошати его: како семо прииде, и что збысться на тебе, видим тя нага суща и несмыслена, и чего ради Корнилиа именуеши, и приходя во врата стукаешися. Он же нача им поведати, не яко смыслен-ным умом, но яко же просто сказоваше, рече: “Корнилие мя приведе зде, да и ушел.” И путь показоваше, и с ним доидох ко святым вратам, глаголя: “Сими враты Корнилие прошел, а мене не пустил, и я того ради стукаюся.” В тоже время по нахождении нощи, начаша к заутрени благовестити. И прихождения ради людскаго ко утреннему пению мо-настырския меншия врата стражие отперли и отворили, и нудяше его на монастырь с собою вкупе итти. Он же не хотяше в малые врата итти, и отревашеся от них, и пришед в болшия святыя врата, бияше, сказоваше има: “В сие врата Корнилиа пройде.” И по благословению игумена взяша его в манастырь и приведоша его в церковь к чюдотворцове раце. Он же, увидев раку и образ чюдотворцов, и усклабися лицем, рече: “Сей убо Корнилие приведе мя до святых врат.” Игумен же и священницы взяша его и ведоша ко иным иконам в церкви и указоваше ему, глаголюще: “Не
сей ли есть тебе приведе ко вратом?” Он же обращашеся ко гробу, и на образ святаго взирая и падая пред ним. И нача игумен со священницы молебен пети у гроба святаго и понудиша его молитися. Он же нача молитися, и приложися у гроба святаго, и милостию божию и Пречистыя Богородицы, и молитвами угодника преподобнаго чюдотворца Корнилиа здрав бысть и умом совершенен, яко же и прежде.
Последи же начать поведывати смысленным умом со слезами, глаголя: “Забыв убо и не помняше того часа и дни како ума изступив, и того кричания своего и великаго вопля, и во врата стукания, и где одежды своя скинул, или кто с меня снял, хождаше убо во иступлении ума своего и вневедении себе, и каков бе аз не имеяше стыда, прихождаше в живущия деревни и бродяше по полям и по лесу, и по дебриям. И абие явися мне старец велми светлообразен и взя мене за руку, и именова имя свое, и сказа ми ся: “Аз Корнилие, пойди за мною в дом Пречистыя Богородицы в наш монастырь, — глаголя, — будет ти от Бога посещение и Пречистыя Богородицы, способствуем же ти и мы. И паки шествие творит предо мною, аз же вослед его идяше, и приведе мя до святых врат, и абие он невидим бысть, азже остася за враты, и того ради стукашеся во врата, и прошашеся за ним в монастырь.” Приложи же и се сказати, каков бе Корнилие, глаголя: “Светел лицем и красен сединою, и видением умилен, и паки добр бе, имеяше же у себе в руках посох, рекше клюку, устроену деланием добрым и прочая сказоваше, якоже и прежде поведа и приведоша мя в церковь преподобнаго чюдотворца Корнилиа к раце, и ныне вижу пред вами, якоже киим образом явися мне на распутиях, таков бе и на иконе написан, и падая пред ним, моляся со слезами, прося о помощи и прощения грехов своих.” И пребысть в монастыри три дни, моляся совершенным умом. Игумен же поучив и наказав его страху божию, он же прия со благодарением и отиде в дом свой, здравствуя и радуяся, благодаря Бога и Пречистую его Матерь и угодника их чюдотворца Корнилиа. Мы же, слышавше от него сие новое и преславное чюдо, прославихом Бога, и писанию предахом в похвалу Богу и Пресвятей Богородице и их угоднику чюдотворцу Корнилию, на прочитание же и ползу слышащим.
QQQ
БИБЛИОГРАФИЯ
КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ — ОСНОВАТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ
Корнилий преподобный Комельский // Опыт исторического словаря о всех в истинной православной греко-российской вере святого непорочною жизнию прославившихся святых мужах. — М., 1784.— С. 139.
Корнилий преподобный Комельский // Русский биографический словарь. — СПб., 1880. — Кн. 7. — С. 257.
Верюжский И. Преподобный Корнилий Комельский, вологодский чудотворец. — Вологда: Тип. Гудкова-Белякова, 1880. — 38 с.: рис.
То же // Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею церковию и местночтимых. — Вологда, 1880. — С. 405—441.
Мордвинов В. Житие преподобного Корнилия Комельского // Мордвинов В. Жития святых угодников епархии почивающих, прославленных церковью и местночтимых. — М., 1879. — С. 28—30.
Кубеницкий С. Покровительство преподобного Корнилия Комельского Чудотворца // Странник. — 1887. — № 6. — С. 100—104.
Коноплев Н. Святые Вологодского края. — Вологда, 1895. — С. 85—101.
То же // ЧОИДР. 1895. — Кн. 4. отд. 4. — С. 85—101.
Коноплев Н. Преподобный Корнилий Комельский: В память четырехсотлетия со времени основания обители преподобного Корнилия Комельского (1497—1897). — Вологда, 1897. —16 с.
Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI веках (по “Житиям святых”). — М., 1966. — С. 280—305.
Понырко Н. Корнилий Комельский (1455 — 19.5.1537) // Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.) — Л., 1988. —Ч. 1. А—К. — С. 485—490. — Библиогр.:
7 назв.
Понырко Н. Нафанаил (инок Корнилиева монастыря, XVI в.) // Там Же. — Ч. 1. Л—Я. — С. 122—124. — Библиогр.: 6 назв.
О “ЖИТИИ КОРНИЛИЯ КОМЕЛЬСКОГО”, НАПИСАННОГО НАФАНАИЛОМ
Федотов Г.П. Святые Древней Руси. — М., 1990. — С. 191—193. Корнилий, преподобный игумен Вологодского Корнилиева Комельского монастыря // Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви и о некоторых подвижниках благочестия, местночтимых: (Репринт. изд. 1862 г.). — М., 1991. — С. 138—139.
КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Иноходцев П. [Корнильево-Комельский монастырь] // Собрание сочинений выбранных из месяцеслова на разные годы. — СПб., 1793. — Ч. X.
— С. 318—319.
Амвросий. Корнилиев-Комельский 3-го класса мужской монастырь //Амвросий. История Российской иерархии… — М., 1812. — Ч. 4. — С. 651—773. С публикацией списка ставленной грамоты, общежительного устава преподобнаго Корнилия и грамот, жалованных монастырю российскими Государями.
Ставленная грамота преподобного Корнилия Комельского 1501 года / ВГВ. — 1839. — № 14. — С. 108—109.
Грамота, жалованная Корнильево-Комельскому монастырю / ВГВ. — 1846. — № 33. — С. 339—341; № 34. — С. 350—352; № 35.
— С. 362—363; № 37. — С. 386—388.
Список с государевой жалованной грамоты Корнильево-Комельскому монастырю слово в слово [1629 г.] / ВГВ. — 1846. — № 36. — С. 372—376.
Приходно-расходные книги Корнильево-Комельского монастыря, 1576—1578 // Летопись занятий Археографической комиссии.— СПб., 1871. — Вып.У.
Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. — СПб., 1833.
— С. 22.
Корнильев монастырь / ВГВ.— 1839.— № 13.— С.100—103.
Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: Вакационные дни в 1847 году: В 2-х ч. — М., 1850. — С. 93—97.
Историческое и статистическое описание Корнильево-Комельского монастыря, составленное в 1852 году,— Вологда: Тип. Зубева, 1855. — 113 с. — Список источников, 109—113.
Открытие воспитательного училища при Корнильево-Комельском монастыре Грязовецкаго уезда / ВГВ. — 1874. — № 17.
Суворов Н.И. Корнильево-Комельский монастырь Вологодской епархии / Вологод. епарх. вед. — 1883.— № 1.— С. 1—9; № 2.— С. 21—30;
№ 3.— С. 51—59; № 4. — С. 71—79; № 5. — С. 87—96; № 6. — С. 105—112;
№ 7. — С. 129—137; № 8. — С. 155—162; № 9. — С. 163—170. отд. оттиск:
Вологда, 1883.
Открытие церковно-приходской школы в Корнильево-Комельском монастыре / ВЕВ. — 1889.— № 21.— С. 380—381.
Степановский И.С. Корнильево-Комельский монастырь // Степанов-ский И.С. Вологодская старина; Ист.-археол. сб.— Вологда, 1890, — С.256, 263—265, 484.
Корнильево-Комельский монастырь Вологодской епархии.— Изд. 3-е, испр. и доп.— Вологда: Тип. губ. правд., 1890.— 22с.: фото.
Корнильево-Комельский монастырь Вологодской епархии.— Изд. 4-е.— Вологда: Тип. губ. правл., 1897. — 66 с.
Лебедев А.К. Четырехсотлетие Корнильево-Комельского монастыря / ВЕВ. — 1897. — № 13. — С. 238—242; отд. оттиск: Вологда, 1897.
Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание Корнильево-Комельского Введенского мужского монастыря (Вологодской губ., Грязовецкого уезда): С прил. краткого историко-медико-топографического очерка Корнильево-Комельских минеральных источников. — М.: печ. А.И. Снегиревой, 1897.— 36 с.
То же. — изд. 2-е, испр. и доп. — М., 1900.
Круглов А.В. Поездка в Корнильево-Комельский монастырь. (Наброски из записной книжки) // Ист. вестник. — 1897. — Т. LXX (окт.—дек.)
— С. 216—236: ил.
Корнилиев Комельский Введенский монастырь Вологодской епархии Грязовецкого уезда. — Изд. 5-е. — Вологда: Тип. Шахова и Клыкова, 1904.— 69 с.
Корнильево-Комельский монастырь / Известия Археологической комиссии. — 1915. — Вып. 59. — С. 178—179: рис.
Лурье Я.С. Устав Корнилия Комельского в сборнике первой половины XVI в. // Рукописное наследие Древней Руси: по материалам пушкинского дома. — Л., 1972. — С. 253—260.
Колычева В.И. Денежный бюджет монастырей по приходо-расходным книгам XVI века // Материалы XV сессии симпозиума по проблемам аграрной истории СССР: Вып. 1. — Вологда, 1976. — С. 45—61.
Корнильев-Комельский Введенский мужской монастырь // Полный православный богословский энциклопедический словарь: Т. 2 (Репринтное изд.). — М., (1992). — Стб. 1472.
КОРНИЛЬЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Минеральные ключи Грязовецкого уезда / ВГВ. — 1842. — М° 18.
— С. 135—138.
Шюц П. О Корнильевских минеральных источниках / ВГВ. — 1856.
—№ 20.—С. 155—157.
Волоцкой В. Несколько слов о минеральных источниках вообще и о Корнильевском в особенности / ВГВ. — 1877. — № 1. — С. 3.
Солонцев М. Лечение в Корнильевом монастыре /ВЕВ. — 1883.
— № 16. — С. 291—292.
Орнатский В. Несколько слов о целебном источнике при Корнильево-Комельском монастыре Вологодской епархии / ВЕВ. — 1884. — № 4.
— С. 84—91.
Корнильево-Комельские минеральные воды и Девяти-избеюясий источник / Наш Север. — Сиб., 1897. — С. 186—189.
Антоний, игумен. Корнильевские минеральные источники. •—Вологда: Тип. Гудкова-Белякова, 1905. — 7 с.: ил.
QQQ
Э.А. Волкова (г. Вологда)
ГРЯЗОВЕЦКИЙ УЕЗД В ЗАПИСЯХ СОВРЕМЕННИКОВ И ТРУДАХ ИСТОРИКОВ КОНЦА XVIII—XIX ВВ.
Раздел представляет собой подборку материалов, посвященных различным сторонам быта населения Грязовецкого уезда прошлого века. Эти материалы были в свое время
опубликованы в местной периодической печати и столичных изданиях. Сейчас они практически неизвестны широкому кругу читателей. Составляя данную подборку, мы преследовали цель разностороннего охвата грязовецкой уездной жизни. Именно поэтому рядом с официальным описанием Грязовца и округи П. Иноходцева помещены фрагменты книги С.П. Шевырева. Автор, известный славянофил, пытается погрузиться в глубину провинциальной жизни; в захолустном Грязовце находит талантливого слепца, математика-самоучку, видит высокие образцы народной нравственности.
Любопытен рассказ Н.Ф. Бунакова “Мелкопоместные баре”” изобилующий этнографическими деталями.
В разделе опубликовано извлечение из дневника А.Ф. Фортунатова о старинных костюмах Грязовецкого уезда — один из наиболее ранних материалов по теме.
Наиболее фундаментальным этнографическим материалом раздела следует признать “Описание одного прихода”, опубликованное анонимным автором из помещиков в “Вологодских губернских ведомостях”. Название символично, так как речь идет не столько о конкретной местности, сколько о типичном сельском приходе одной из северных губерний России вскоре после отмены крепостного права. “Описание” относится в значительной степени к “официальной” литературе. В пользу этого говорит нарисованная автором благостная картина крестьянского существования. Впрочем, верноподданические чувства автора не затрагивают в полной мере действительную картину жизни грязовецкой деревни. Раздел, посвященный нравственности, дает обильный материал для размышления как историку культуры, так и радетелю “нового православия”, уповающему на исторический опыт “святой Руси”.
Статья “Сельские торжки” посвящена крестьянскому торгу в с. Сидорове Грязовецкого уезда. Эта местность находится в значительном удалении от Московской дороги. Торжок, являясь внутри-уездным, существовал за счет ресурсов внутреннего производства. Интерес читателя вызывает процесс формирования товарного предложения, ассортимент продукции, торговые связи с соседними уездами.
Последней в разделе стоит архивная публикация “Усадьба Васильев-ское”. Это небольшая пейзажная зарисовка, посвященная ландшафту Грязовецкого уезда. Автор составил трогательное описание родных мест, подметил достопримечательности. Вызывает уважение чувство гордости, с каким молодой человек, сдающий экзамены за 7 класс гимназии, говорит о своей “малой” Родине.
Описание Грязовца и уезда не исчерпывается предложенными материалами. За рамками раздела осталось значительное количество публикаций. Назовем важнейшие из них, отослав заинтересованных лиц к выходным данным изданий.
Разделы, посвященные Грязовцу, есть в книгах А.А. Засецкого, Н. Брусилова, И. Пушкарева1. Этнографические материалы можно найти в монографии Н.А. Иваницкого2.
Заслуживает внимания описание двух путешествий — экономиста В. Попова, обследовавшего парусинный завод грязовецких купцов Чечулиных3, и журналиста С.Ф. Шарапова, побывавшего в 1892 г. в Грязовце. Последнему принадлежат идиллические строки об уездном центре, которыми уместно закончить этот краткий обзор. “Недоимок нет, грабежей и убийств тоже, мертвых тел не объявляется, процессов почти не ведут, живут по-божьему, не жалуются, не кляузничают, а сажают себе картофель, сеют лен…”4.
А.В. БЫКОВ
(г. Вологда)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Засецкий А.А. Исторические и топографические известия по древности о России и частно о городе Вологда и его уезде. Собрал из разных российских и иностранных книг и из собственных примечаний собранные и сочиненные 1777 г. — М., 1780 и второе издание, М., 1782 г.; Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. — СПб., 1833.; Пушкарев И. Описание Вологодской губернии. // Посвящено имени его императорского высочества государя наследника цесаревича, Великого Князя Александра Николаевича. — СПб., 1846. — С. 103.
3. Попов В. Парусинный завод гг.Чечулиных в Грязовецком уезде. / ВГВ. — 1862. — № 16.
2. Иваницкий Н.А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. — М.,1890.
4. Шарапов С.Ф. По русским хозяйствам. Путевые письма из летней поездки 1892 г. в газету “Новое время” пополненные и пересмотренные. — М., 1893.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Л.ИНОХОДЦЕВ
ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ ВОЛОГОДСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА С ИХ ОКРУГАМИ
Грязовец, новоучрежденный в 1780 году августа 2 дня, город из экономического села того же имени, коего крестьяне обращены в купечество и мещанство. Положение имеет на суходоле, посредине которого течет небольшая речка, или паче ручей, Ржавец; окружается сей город прежде бывшими здешних жителей полями, а позади оных лесами и занимает в длину 570, в ширину 343 сажени;
в окружности же с небольшим три версты. Состоит из одной улицы, по обеим коея сторонам обывательские домы, и при конце каменная церковь Рождества Христова.
Купцы и мещане торгуют в своих домах съестными припасами, а как лежит оной по большой Московской дороге, то содержат постоялые дворы и все нужное для проезжающих, как то: деготь, овес, сено, колеса и тому подобное; некоторые же и сами под извоз нанимаются. Жители обоего пола вяжут шерстяные чулки и варьги; другие упражняются в медной чеканной работе и в кузнечных изделиях, наиболее же в крашении полотен, что и в герб сего нового города внесено, а именно, в нижней половине щита, в серебряном поле представлена машинка,, употребляемая для делания крашения.
Ярмарки бывают в сем городе в Петров день, Введениев и в Антониев, на которых торгуют привозными из разных городов товарами:
шелковыми, нитяными и прочими на крестьянскую руку, а по большей части скупают холст приезжающие из разных российских городов купцы. Продолжение сих ярмарок бывает от трех до четырех дней, и собирается народа от четырех до шести тысяч. Сверх сего еженедельный торг бывает по понедельникам. Хлеб и прочее нужное для пропитания и житья получают из ближних деревень и из города Вологды; водою довольствуются колодезною, а что принадлежит до овощей, то оных совсем нет в Городе. Отстоит же Грязовец от С.Петербурга — 1112, Москвы —- 380, of губернского города Вологды — 42, от смежных сего наместничества Тотьмы — 240, Ярославскаго нам. от Данилова — 80, Пошехонья — 90, Любима—60, Костромского нам. от Буя—70, Солигалицка—140 верст.
Уезд Грязовецкий граничит к северу с Вологодским и Кадниковским, нам., с Галичским, к югу Ярославскаго нам. —с Любимским и Пошехонским, к западу Новогородскаго нам. — с Череповецким, и простирается в длину на 148, в ширину на 78, а в окружности на 649 верст. Местоположение оного по большей части ровное; почва более серая с глиною, а местами песчаная, и для того к плодородию не столько способна, как
в Вологодском уезде, почему и на удобренной земле урожай бывает посредственный. Сеют же на унавоженной пашне рожь, овес и малое число ячменя и пшеницы, из которых рожь — сама шестая, овес и ячмень—сам третий, а пшеница—иногда сама третия, а иногда и менее родится. Итак, у жителей за продовольствием своим остается хлеба немного, который для необходимых своих надобностей отвозят на продажу в город Грязовец, а иногда и в Вологду, но весьма малым количеством; в другие же места отпуску оного не бывает. Орудия для обрабатывания земли суть такие же, какие и в других местах употребляются.
Лес по сей округе растет ельник, сосняк, осинник, березник, ивняк, ольшняк и другой в сих местах обыкновенный, которого хотя и довольно, но на хорошее строение недостаточно, а более годного на дрова и другие мелочные надобности. Оного небольшое число возят для продажи в город Грязовец и вешним временем сплавливают в город Вологду плотами по реке, имеющим сообщение с Сухоной и Вологдой, на дрова и мелкие строения.
В уезде сем, в Комельской трети, в Авнежской волости находится немалой величины болото, а при бывшем Николаево-Озерском монастыре озеро, называемое Комельское, которое длиною 5, шириною 3, а в окружности с лишком 16 верст; в оное впадают 4, а истекает одна река, именуемая Комела, да и кроме сей есть довольно рек и речек, из коих по четырем в большую воду гоняют плотами разный строевой и дровяной лес, прочие же мелки; из судоходных — одна Сухона, по которой в вешнее разлитие воды большими судами, а малыми всегда, ход бывает. В сих водах такая же водится рыба, какая и в прочих местах сей области.
Монастырей и пустынь по сей округе до состояния штатов о церковных имениях было довольно, но ныне только три находятся.
1) Павлово-Обнорский монастырь третьего класса, расстоянием от губернского города Вологды в 60, а от Грязовца в 15 верстах, построен з 1414(6922) году, по благословению Фотия Митрополита, преподобным Павлом Обнорским, который, прожив 112 лет, преставился в 1429 (663) году. Каким иждивением построен сей монастырь, по причине бывшего отлитовцев разорения, который весь оный со всеми записками и прочим монастырским имуществом огню предали, — неизвестно;
мощи же преподобнаго Павла находятся в церкви оного монастыря под спудом. Игуменство в нем учреждено вскоре по состроению,и первый был игумен Алексий ученик преподобного Павла, что продолжалось по 1694 год, а в оном по просьбе братии Адрианом, патриархом Московским, с дозволения государей, царей и великих князей, Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, рукоположен первый архимандрит с сереброкованою шапкою Вологодского Сямского монастыря игумен Сергий, и продолжалась архимандрия до 1764 года, в котором паки учреждено игуменство. Стоит сей монастырь при речке Нурме в Обнорской
волости, почему и Обнорским именуется; в нем строения каменного две церкви, и при одной настоятельские кельи, прочее же строение деревянное.
2) Корнилиево-Комельский третьеклассный монастырь построен в 1515 (7025) году, при державе великого князя Василия Иоанновича, по благословению Варлаама, митрополита всея России, преподобным Корнилием, который преставился в 1537 году, и мощи его находятся в сем монастыре под спудом, в придельной во имя его церкви при соборе. Чьим же иждивением вначале строен — неизвестно, и никаких о том записок не отыскано. Игуменство началось со времени его преподобного Корнилия и продолжалось по 1693 год, в котором по челобитью вологодских купцов и других разного звания людей Адрианом патриархом рукоположен оного ж монастыря игумен Климент в архимандрита с сереброкованною шапкою, и сие начальство продолжалось по 1764 год, в коем опять учреждено игуменство. Стоит сей монастырь в Комельской волости, от которой и название получил, при речке Нурме близ бывшей проезжей дороги, от Вологды в 46, а от Грязовца в 5 верстах. В оном монастыре каменных церквей три, и при одной из них настоятельские кельи, также некоторая часть стены, ворота и над оными церковь, и еще келья немалая каменная, а прочее строение деревянное. Около монастыря устроены были немалые рыбные пруды, и на оных наливнай мучная мельница, но нерадением прежде бывших начальников ныне в прудах не только рыбы, но и воды нет, а снимают на том месте несколько сена.
3) Арсеньев монастырь, построенный по благословению Алексия, епископа Вологодского, в 1547 (7055) году преподобным Арсением, который был уроженец города Москвы, от рода бояр Сахарусовых, постриженняк Троицко-Сергиевой Лавры, где и игуменом был, но, оставя оную, пришел на сие место, на коем тогда был лес, Комельский называемый, и собственным своим трудом и иждивением означенный монастырь создал и в оном преставился; мощи его находятся в церкви монастыря под спудом. Игуменство началось с самого сего основателя преподобного Арсения, которое и поныне продолжается. Стоит на ровном месте, близ реки Лежи, на берегу реки Кохтыша, расстоянием от Вологды 25, а от Грязовца 20 верст. Строения в сем монастыре каменного одна только церковь, а прочее все деревянное.
Хотя в Грязовецком уезде больших ярмарок и на оные съездов из разных городов не бывает, однако ж ежегодно торгуют по три дня в трех сего уезда местах: 1) у Спаса на Нурме; 2) у Спаса на Угле; 3) у Спаса же в Ямщиках, и во всех сих местах торжище бывает в одно время августа 1 -го числа, почему и стечение народа бывает посредственное, из одних близлежащих к каждому месту волостей. На оные приезжают из Вологды мещане с разными мелочными товарами для крестьянства потребными, а иных дорогих товаров не привозят. Жители почти все без изъятия упражняются в земледелии и от оного себе пропитание и нужное
для содержания своего получают; женщины же в ткании холстов, которые за продовольствием своим на необходимые надобности продают разным людям и в разных местах; некоторые отвозят для продажи в города, а другие — разъезжающим по деревням и скупающим холст купцам.
(Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. — СПб., 1793. — Ч.Х. — С.312—321.)
QQQ
С.П.ШЕВЫРЁВ
ПОЕЗДКА В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В пяти верстах от Грязовца находится монастырь Преподобного Корнилия Комельского. В месте весьма уединённом, окружённом перелесками, на речке Нурме, возвышаются стены монастыря и главы его храмов. Обитель бедна. Она оживлена теперь деятельностью отца игумна Арсения, который недавно поступил сюда. Когда мы приехали в монастырь, вся братия вместе с игумном была на работе: колотили сваи на речке Нурме.Это напомнило мне времена древние.
Преп. Корнилий Комельский жил 82 года, от 1455-го до 1537-го. На том месте, где теперь стоит обитель, им основанная, и почивают под .спудом его мощи, пребывал он 41 год. Житие его писано неизвестно кем, но видно, что его современником, который слышал многое из собственных уст его. Родился Корнилий в Ростове, от родителей благородных и богатых. Служил при дворе Великой Княгини Марии, супруги Василия Тёмного, в инокинях Марфы. Здесь был помещен Корнилий дядею своим, Лукьяном, человеком весьма набожным. Оба они, и дядя и племянник, оставив двор, постриглись в монастыре Св. Кирилла Белозерского. Корнилию было тогда 20 лет. В Кириллове, кроме других работ, занимался он писанием книг, которые до сих пор сохраняются там, как говорит его жизнеописатель.
После многих трудов и искуса, будучи 41-го года, пришёл он на Комельский лес в 1497 году. Лес был вертепом разбойников. Жилище одного из них послужило кельей для Святого. Разбойники нападают на него, но кроме книг ничего не находят, однако берут и книги. Они побеждены Святым. Много препятствий одолеть было надобно; но все уступает его воле. Первая мысль его — построить хотя малую деревянную церковь. Дикий лес падает перед ним; но однажды, дерево ранило ему, сонному, голову. Клевета и наветы от своих и чужих мешают святому делу. Но число братии умножается. Средства растут. Все мысли сосредоточены около строения большой церкви. Так разделены и занятия. Одним поручено художество: воздвигать стены, другим мудрость: писать иконы, тем же — честные кресты и книги. И вот, через
19 лет после того, как пришёл на дикое место Корнилий, трудами братии, постом и слезами их, вознеслася благолепная церковь, и украсили её как невесту образами святых икон и книгами. За тем последовал храм во имя Св. Антония. А там уже возникли и келлии, и стоят посреди их церкви. “как некие очи, взирая повсюду”. Поставлены также больница и стран-ноприемлица для странных и нищих. Вот начал стекаться во множестве народ к Святому: кто идёт за благословением, кто за советом, кто с вопросом, кто с недугом телесным, кто с душевным. Толпы нищих собираются около него — и он оделяет их просфорами, калачами и деньгами. Житие ведётся в обители строго. Ни один труд не совершается без молитвы и священного пения. Учредитель обители своею рукою пишет строгий устав — и отдаёт его братии, а сам удаляется в пустыню,
за 70 вёрст от монастыря.
Так, по примеру Антония, к которому Корнилий питал особенное благоговение, поступали многие основатели монастырей. Братия тужит о своём начальнике. Великий Князь Василий Иванович с супругою своею Еленою, по дороге в Кириллов монастырь, заезжает и в обитель Комельскую. Братия просит Государя убедить Корнилия к возвращению в обитель. В. Князь приказывает ему возвратиться из пустыни в монастырь и дожидаться приезда его из Кириллова. Корнилий с тремя братьями встречает Великого Князя на Вологде и кланяется ему до земли. Василий Иванович беседует с пустынником на пользу душе, поручает ему молиться о разрешении жены его от неплодия, убеждает старца не оставлять обители, но старец противится тому, ссылаясь на свою старость, немощи и заботы о собственном спасении. Он молит Великого Князя отпустить его в пустыню, чтобы там плакаться о грехах своих. Государь не в силах противиться его молению и отпускает его. Но не совсем оставляет он обитель. Нередко является в ней, говорит поучения братии. Один брат Закхей приходит к Преподобному в мантии, вязанной лыком, и просит его, чтобы он приказал изменить её на лучшую: Корнилий отдаёт ему свою, а сам надевает на себя Закхееву, вязанную лыком, и долгое время ходит в ней. Перед кончиною старец посетил ту обитель, в которой принял пострижение, но скончался в той, которую сам основал, завещал ученикам своим сохранять его предания. “Заповеди Божия сохраняйте и мои предания, я же написал вам своею рукою, держите сия начасте, прочитайте “на воспоминание”. Предания о чудесах Преподобного соединены с именами некоторых урочищ, существующих теперь неподалёку отсюда. Так упоминается крестьянин из деревни Кебаш, веси Обнорской, которая и теперь находится недалеко от Обнорского яма. Замечательны также Русские имена монастырских крестьян: Дубовик, Шестак, дети которых получили исцеление у
раки Преподобного.
Седовласый монах, один оставшийся дома, потому что не в силах
был колотить сваи, служил для нас молебен Преподобному. Храмы
монастырские весьма бедны. Древнейшие украшения их относятся ко временам Бориса Годунова, ибо мощи Преподобного открыты при Патриархе Иове. Крест на монахе — вклад Борисов, о чем свидетельствует и надпись.
В монастыре сохранены грамоты, относящиеся к его истории. Ризничий хорошо читает их, что не во всех монастырях встречается. Древнейшая ставленая Корнилиева (в попы), дана Симоном Митрополитом в 1501 году. Она напечатана в Истории Российской Иерархии. Другая — Патриарха Иова, свидетельствующая об открытии мощей Св. Корнилия. Отец Игумен, разбирая архив монастырский, открыл новые. Всем составлена опись. Одна касается до подвод Патриарху Никону; есть любопытные грамоты об ямчужном деле, т.е. об селитряных варях. Я просил Отца Игумна найденныя вновь грамоты отправить в Археологическую Комиссию. Но Устав, писанный рукою Корнилия Комельского и напечатанный в Истории Российской Иерархии, в его обители не сохранился, и нет ничего, писанного его рукою, несмотря на то, что он, как видно из его жизни, любил книжные занятия.
Братия, утомлённая работою, сошлась в кельях Игумна и пила чай. Мне полюбилась эта патриархальная простота нравов, напоминающая древнюю жизнь и самого Корнилия, который, говоря словами Жития его, “печашеся о братии, яко отец чадолюбив, истинный пастырь радяще о овцах”.
Недалеко от монастыря находятся железистые ключи, которые могут быть полезны в иных болезнях, но ими однако не пользуются. В народе живут чудесные предания об одном дереве, которое растёт недалеко от монастыря. Его хотели срубить, но не берёт его никакая сила. Топоры ломались об него, а от дерева вылетали такие искры, что наводили страх на покушавшихся. Это дерево заповедано было Преподобным Корни-лиеем.
Предание рассказывал нам извозщик Иван, который нас вёз от Семёнковской станции. Весьма красивый юноша, с греческим профилем; правильность носа удивительная; почти нет выема у бровей, как на фигурах этрусских ваз; каким образом этот профиль зашёл к нам сюда? Видно все есть в нашей огромной России. Карандаш поэта, верно и с большим вкусом, передал его черты, которые можно видеть на рисунке. Мы просили Ивана спеть нам самую модную, любимую песню, какая теперь поётся у них в народе. Он нам спел её. Вот она:
Захотелось мне проведать, Где любезная живёт:
Где живёт моя милая, Та привольна сторона. Разливалась, растекалась Быстра реченька по ней,
Быстра реченька по ней, С крутым бережком ровна;
Через эту полу воду
Легку лодочку найму,
Легку лодку, белозёрку, Перейду за реку
На привольну сторону.
На привольной, на весёлой,
Я повыстрою терем,
Я повыстрою терем
Со широким со двором.
С горя ноженьки не ходят, Глазки на свет не глядят. Нет на свете того хуже, Что женатого любить:
Он женатой вожеватой, Его жизнь больно бедна, Его женушка вольна:
Не отпустит погулять, Хоть отпустит глаз не спустит, Всё в окошечко глядит. Нет на свете того лучше С холостым любовь водить;
Я тогда дружку поверю, Как сама стану гулять;
Я сама стала гулять, Стала милого жалеть.
Не весело пел Иван. Причина была проста. Хозяин его скуп и кормит плохо. С утра он не ел. На греческой его физиогномии было выражение какой-то грусти и задумчивости. Несмотря на голод, он оживился, когда проезжал по селу своему, и проскакал лихо, во всю прыть, заглядывая в окна изб, откуда высовывались женские головы, вероятно думая про себя: ай-да наш Иван! Как лихо скачет!
Грязовец, уездный город Вологодской губернии, прежде бывший селом Грязовлецы, вероятно, так назван по грязным своим, причиняемым глинистою почвою. Дурная погода, предшествовшая нашему приезду, способствовала ещё более к тому, чтобы объяснитьпроисхожде-ние его имени. Мне хотелось познакомиться в этом городе со слепцом-математиком, грязовецким мещанином, Михаилом Алексеевичем Серебряковым. Я знал об нём прежде по его биографии, перепечатанной в “Московитянине” из “Вологодских губернских ведомостей”, и по собственному письму его, напечатанному в том же журнале. В этом городке родился этот замечательный русский простолюдин; вскоре после рождения, ослеп невежеством своей пестуньи и отца, и потом
раскрыл столь необыкновенные математические дарования, что своим собственным способом решал важные математические задачи и даже обратил на себя внимание нашего первого математика Михаила Васильевича Остроградского.
Когда обратился я к хозяину гостиницы с вопросом о грязовецком слепце, — он обрадовался мне, как будто давно знакомому, и с некоторою гордостью отвечал, что Серебряков его приятель и сей-час ко мне явится. Не прошло десяти минут, как слепец сидел уже передо мною, в своём длинном, засаленном сюртуке, во всех признаках его беспомощной бедности, с замечательно умною сократической физиогномиею. Прибытие моё было для него радостью. Он принёс мне статью свою о Сократе, которую диктовал в это время, и отрывки из своей Психологии, которую занимался он уже давно, по совету почтенных учёных Вологодской гимназии.
Кратковременно было свидание моё с грязовецким слепцом. Не более часу провёл я в беседе с ним. Но после, уже в Москве, я имел случай короче с ним познакомиться и узнать о том духовном образовании, которым он обязан родному своему городу и тому сословию, из которого вышел. Серебрякова узнали и радушно приняли в нашей столице многие почтенные люди, учёные, литераторы, светские. Появление его в Московском обществе доказывало, что у нас не так разделены сословия, как мы воображаем, и что во имя высших начал духовного образования могут соединяться люди, не смотря на то, что по отношениям гражданским они поставлены друг от друга на весьма далёком расстоянии.
Лета, умеряющие пылкость и силу воображения вычисляющего, недостаток средств слепому, да притом бедняку, заниматься математикой, и другие наклонности, впоследствии развившиеся, заставили Серебрякова оставить науку числа и меры и обратиться к другим занятиям, более свойственным его положению и возрасту. Мир души открыт ещё более для слепого, нежели для зрячего — и вот куда устремляются его мысли.
Но не каждый мог бы устремиться туда, без предварительного приготовления. Грязовецкий слепец, к счастью, получил его. Родной его город не мог предложить ему тех наук, которыми мы возделываем наши способности, однако и он удовлетворил его, хотя в малой мере. Зато он дал ему начала высшего, духовнаго образования, — и эти начала вынес он из круга тех мещан и крестьян, среди которых воспитался. В биографии слепца, напечатанной в “Москвитянине”, не было о том упомянуто. Здесь я передам слова самого слепца. Они познакомят нас с лучшею стороною жизни самого низшего из сословий наших и дадут объяснение тому, как мог быть развит духовный разум в мещанине, который заслужил внимание всеобщее.
Жители Грязовца, говорили слепцы, очень набожны. В воскресный или праздничный день все бывают, от мала до велика, в церкви, и если случится когда во время всенощнаго бдения или обедни проходить по
улице, то город, по безмолвию, кажется как будто пустым или вымершим; сверх того, очень любят заниматься Св. Писанием. Есть домы, в которых каждый день собираются любители Слова Божия и более из них умеющий читает, а прочие его слушают; а в праздничные дни, нередко участвуют в слушании Св. Писания и крестьяне окольных деревень;
сверх того, и по деревням есть таковые же чтецы Св. Писания. Мне случалось бывать на деревенских беседах, — и вот как представлялась мне эта беседа: в чистой Русской избе сидят по лавкам и скамейкам старцы и юноши, женщины и девушки, — и глава семейства, как некий патриарх, за простым деревянным столом, читает толстую книгу, при сальной свече, а нередко и при лучине; и так этот чтец, то бойкой, то иногда чуть-чуть разбирающей,с любовью возвещает слушателям Слово Божие. Ни бедность, ни неуменье чтеца, ни же самая молодость некоторых слушателей, ничто не препятствует питаться этою небесною манною. Я в это время переносился мыслию ко временам Апостольским, и думал: не такова ли была и Церковь первенствующих Христиан?…
“Случалось мне бывать свидетелем и не столь величавых, но не менее трогательных явлений, когда отец семейства, вечером на праздничный день, зажигает перед образом восковую свечу и говорит: “Дети! пора Богу молиться”, — и вот все семейство стекается в один кружок, и отец берет четки, и все тому последуют, и начинается тихая, но, может быть, самая пламенная молитва, которая достигает до престола Вседер-жителева. — О чем эта молитва? — знает один Сердцеведец. — Но сколько мне случалось слышать тихий, молитвенный шопот, он состоял в том: “Господи, отпусти наши согрешения.” — Я думал: добрые люди, да есть ли у вас согрешения-то? — Потом отец, как бы намеренно, скажет свою молитву погромче обыкновенного: “уроди, Господи, хлеба и соли;
создай, Господи, тихую и теплую росу;” — а как всегда при больших семействах находится один или два человека в солдатах, то отец молится также: “спаси Господи Христолюбивое воинство и батюшку Царя православного.” — И как эдакой молитве не достигнуть небес?”
На этих-то беседах слепец, лишенный возможности читать, слушал, кроме чтения Св. Писания, Творения Святых Отцев, Иоанна Златоустаго, Василия Великаго, Четии-Минеи Святителя Дмитрия Ростовскаго, — и отсюда понятно, как разум его прежде всего мог укрепиться в истинах духовнаго мира. Не могу удержаться, чтобы не передать здесь имена тех почтенных Грязовецких чтецов Слова Божия, которые мне сообщены были благодарным слепцом: деревни Креста казенный крестьянин Александр Горячев; деревни Баранцева казенный крестьянин Павел Васильев; в Грязовце мещане Александр Зюнзин, Александр Морозов. Василий Гудков; купцы Василий Посадский, Иван и Иван Комаровы, отец с сыном. Любовь к чтению не оканчивается одним лицом,но простирается на все семейство, — и переходит от одного поколения к другому, как это видно на семействе Комаровых.
Как жаль, что недостаток духовных книг препятствует иногда удовлетворению такой высокой потребности! Как бы полезно было, если бы при волостных управлениях заведены были такие библиотеки, из которых грамотные крестьяне могли бы, для своих благочестивых упражнений, брать Четии-Минеи, Розыск, Алфавит Духовный и все напечатанные у нас Творения Святых Отцев. Эти книги могли бы быть собраны при каждой волости, в числе нескольких экземпляров. А богатые помещики могли бы также озаботиться собранием таких полезных библиотек для своих крестьян. Много, много добра можно сеять на той прекрасной почве, которая готова в сердцах и умах нашего доброго народа, просвещенного если не ученым разумом, то еще высшим разумом Веры.
Скучен, грязен, плох показался мне Грязовец снаружи. Но когда я познакомился с замечательным питомцем этого города, когда этот питомец раскрыл мне лучшую сторону внутренней жизни его, — тогда, признаюсь, я стал вспоминать об этом городке с чувством уважения.
День склонялся к вечеру, когда я оставил Грязовец. Извощик, который повез нас до следующей станции, был, как сказали мне, отличный песенник. Но он не хотел петь песен ради завтрашнего воскресенья и всенощной. Добрый парень послужил мне одним словом, которое сказал он о подстреленном рыболове. “Видно барин-то угодил ему в папорзок”. Папорзок тоже что папороток: косточки в птичьих крыльях, находящиеся между плечиком и кистью, как объяснено в Академическом Словаре. Это слово из уст народа отозвалось мне тотчас выражением в “Слове о полку Игореве”: “суть бо у ваю железный папорзи под шеломы Латинскими”. Д.Н. Дубенский так и объясняет его посредством папороток. Но только ему неизвестна была народная форма слова, которая еще ближе к объяснению. Под именем железных папорзов должно разуметь железные наплечники и даже латы. Но папорзами они названы сравнительно с птицами, ибо перед тем говорено о соколе. Устный язык народа нередко помогает нам при объяснении слов в древних памятниках.
(М.; 1849 Г.)
QQQ
А.Ф. ФОРТУНАТОВ О СТАРИННЫХ РУССКИХ КОСТЮМАХ
Мужчины и женщины Грязовецкого уезда носят синия рубашки, крашеныя в кубовой краске, сарафаны и передники окрашены тою же краской. По праздникам женщины носят воротушки из желтой тафты; у воротушек нашивают на плечах позумент по шву рукава, позументы у воротущки бывают золотые, в палец ширины; ворот обшивают самой узенькой обшивочкой, по которой также нашивают позументы. Нарядные сарафаны носят, по большей части, штофные малиновые, передники — пестрые ситцевые и даже шелковые, кокошники — самые низенькие, щипочком, так что вершина их высовывается над головою несколько наискос, кверху от лба. Кокошники бывают, по большей части, шитые золотом на желтой тафте; по лбу спускается неширокий позумент; надо лбом нашивается тоже позумент в виде конуса. Женщины носят, по большей части, на ногах коты и чулки, спущенные книзу борами. Девицы носят повязки, шитыя золотом, шириною вершка в три; эти повязки назади не сходятся, а делаются завязки и пришивается желтая тафта, которой лопасти длиною около трех четвертей аршина, а книзу шире. На шее носят снизи из жемчуга, бисера и стекляруса; в средине снизей и по бокам, на вершок от середней, бывает наставок в виде звезды. Снизь нашивается на толстой картузной бумаге, обшитой в холстину, в вершок шириною, и выкроенной так, чтобы она лежала по шее кругом;
назади бывают завязочки, и пришивают к концам их две ленты, которыя связываются бантом, а назади опускаются концы в аршин длиною. Поясы (поясья) носят плетеные шелковые; концы у них обшиты золотом в виде груши. Белятся свинцовыми белилами до того, что лицо светится, румянятся красным сандалом, настоенным с квасцами, что называют мазилами.
Зимою носят шубы, покрытыя синим сукном, шубы называются кошулями, нарядныя шубы делаются шелковыя коротенькия, до колен;
боры под самыми лопатками. Девицы (девки) носят грибки, род повойника, как у кормилиц, только повыше, развилистые, без верху; по лбу обшивают широким позументом, а к позументу, сверх того, по лбу надевают поднизку, которую унизывают жемчугом, фестончиками, а сверху девицы покрываются коноватными фатами, которыя не что иное, как большие клетчатые платки, в длину и ширину по 2 У;, аршина;
на средине их проткано с пол-аршина серебром в клетку. Фаты носят девушки на грибках, а женщины на покосных кокошниках, которые совершенно похожи на грибки, только шьются с верхом. Фаты носят как покрывала. В полунаряд надевают красные суконные сарафаны, которые называются суконниками, из алаго сукна, назади с борами, а напереди — в два ряда позументы, в середине — пуговицы от верху до низу; как проймы, так и спинка обшиваются позументами.
(Труды первого Археологического съезда в Москве. — М., 1871. — T.I —С. 194-196.)
QQQ
Н.Ф. БУНАКОВ
МЕЛКОПОМЕСТНЫЕ БАРЕ
— Что делаешь, Наум? — спросил я знакомого старика, который на каменистом берегу Комёлы прилежно рубил сосновый кол.
— А вот, сударь, рыбки охота половить, заездок устроиваю: щи-то пустые напостыли, окунька какого спустишь, так естся больно хорошо. А вы это уточек, поди-ка, ищете?
— Да что попадет — все хорошо; у вас на Комеле нет уток?
— Нет, ноне ничуть уток, совсем ничуть; разве что около Солонца, не то у Грохота, туго по-за длинным-то плесом болоток такой есть; на этих местах они перелет больше делают; да нынче ничуть, я ведь хожу по реке во всякое время; что за диво — не стало уток, да шабаш! А до того много бывало; я со старым-то барином и сколько настреливали!
— С каким старым барином?
— Вы, чай, не помните, сударь… Ведь мне 80 лет, так уж где вам помнить, что мне памятно! Один я, почитай, во всем околотке из стариков-то остался!… До того наше село было других господ; два братана были; у того дом и у другого дом, один еще и по ею пору стоит, что ткацкая-то, прямо к Троице лицом повернулся: в старину строились не как ноне; вот новые господа поставили дом в лесу, над рекою, и смотрит он, значит, на реку да на лес, а старый барин, как строился, говорил: “Хочу дом поставить лицом на Святую Троицу, чтоб с постели, значит, поднялся и перекрестился на церковь”. Ну, чтобы и поля все кругом видать, как и что на селе делается, чтобы, значит, все видно было: хозяин был — одно слово! Ноне, брат, господа не таковы стали:
норовят как бы повеселее, месяц, два пожили в селе, завелась деньжон-ка, ну, и в город, спустить надо! Прежние-то крепыши, кремни были, ну аноне—не того… Вот, примерно, хоть наши теперешние господа, даром что на славе, а долгу на них больше, чем на старых-то было, право, ну!
Наум — старик бывалый и притом говорун, порассказывать, потара-барить он рад, особенно о старине, только была бы охота слушать. Я это знал и, уставши попусту бродить с ружьем, сел на камень послушать россказней старика. Июльское солнышко было далеко за полдень и, обливая золотистым светом крутой изгиб реки, било мне в лицо; на том берегу ворковал дикий голубь; стрижи с щебетаньем хлопотливо сновали около глинистого уступа; с леса несло смолой и березовым листом;
Наум стал устраивать заездок и становить курдюм*.
* Курдюм — снаряд для ловли рыбы, сплетенный из ивовых прутьев, который устанавливается посредине реки, в воротах заездка, т.е. ряда камней, не пропускающих рыбу иначе, как в ворота и через них в курдюм. В уездах Вологодском, Грязовецком и Кадниковском нет ни одной речонки, где бы не было множества заездков с установленными в них курдюмами.
— Нет ноне и рыбы, вовсе не стало! Еще весной ничего— налимишки попадаются… Весь век свой рыболовством занимались; тоже охота, значит, примерно, вот как у вашего брата с ружьем ходить! Да уж что и за народ ноне стал! Тьфу, какой народ! Чуть не доглядишь — всю твою рыбу прощалыги выберут, всяк нарохтится, как бы стащить у другого, как бы чужими руками жар загрести, а на работу—так нет! В старину, было, сколько не наловится рыбы в твой курдюм, никто не тронет, хоть бы пальцем да ткнул кто-нибудь! И на работу раньше был мужик ходок — ныне стал лень-народ, да и не лень, так силы-то что ли в себе не слышит, только, примерно, косит ли, жнет ли—ведь вырвал бы у него и серп-то! Так ли мы работали! Подымались до солнца, ну, ночевать, положим, домой не ходили, а ноне придут на барщину — уж солнышко где! Там, смотришь, у них целый уповод* на обедах да на ужинах пройдет! Не так мы работали своим господам! Хоть я, примерно, так жать ли, косить ли, на охоту ли с барином, рыбачить ли, топором ли что надо изладить, а то и покузнечить — на все был гож, да еще как гож-то!
— Так ты и охотником был?
— Бывал-c, тоже и ружье свое держал, да вот слеп стал, примерно, гляжу хоть на вас — вижу-таки хорошо, а отойди гоны** двои — глаза-то словно за слюдой, ничего не распознать, да и полно!… Впрочемже, надо сказать, что я больше загонщиком был, так стрелять, пожалуй, времени было мало! Уж загонять—так мое дело!.. Оба барина наши, слышь, жили в этом селе, тоже отдельно друг от друга, я-то принадлежал, значит, старшему брату… Господа жили весь круглый год в деревне, и прежде здесь такое заведенье, значит, было: коли помещик — так и живет в деревне, хозяйством занимается; мужиками не брезговали, жили попросту и промышленностями разными не гнушались—охота ли там, либо рыбачество; иной барин сам и на поле работает—в сенокос ли, в жатву ли—на первом загоне*** с серпом идет. Тут около сколько господ жило! По Комеле было вод им, мелкопоместным-то! Бывало к нам, на Мошен-никово, приедут на праздник, наедут попросту, в телегах, вот с Лихтоши барин — в балахоне эдаком, волосы тоже не стригли в те поры, в березовых лапотках — ну и много их посберется; пьют пиво, вино было дешевое да хорошее, с девушками заигрывают — и какое веселье! Как прошёл праздник у нас, лостинский барин и говорит: “Ну, ребята, поедемте, дескать, ко мне! “Ключницу тоже держал—незамужнюю девку Аксинью, такая здоровая, дородная девка, значит, в теле держал! “Давай, — говорит, —Аксинья, ребятам ушат пива!” И выносят нам ушат
* Довольно неопределенная мера времени у крестьян. Впрочем, уповод — немало времени.
** Гоны — еще более неопределенная мера длины, нежели уповод, мера времени. Уповоды рабочего дня определяются обедом и паужином, а гоны не подлежат и такому определению.
*** Поле обыкновенно делится на полосы, которые называются загонами.
пива— вот оно как в старину бывало! Подика-сь ноне, помещик иной — тьфу! Не лучше нашего брата-крестьянина, а суконное рыло и куда воротит, немцем таким прикинулся, до носа-то и багром не достанешь! Наш брат, сермяга, и близко не подходи! И духу мужицкого слышать-ста не может! “Ишь, — говорит, — мужик-навозник, голова тетерья.” Да только и есть, ласкового слова не услышишь! А ведь тоже и мы, сударь, люди, все под Богом ходим!… Оно, конечно, и ноне есть всякие господа:
наши даром что генералы, а куда добры да ласковы до крестьян; ну, да немного же таких!
А мой господин, то есть старый-то, был славный барин, простяга, царство ему небесное! И какой добрый да просужий! Вот, сударь ты мой, эндак около сенокоса и начинается у нас охота — перво-наперво за норками; тут по речкам норки-то и теперь пропасть, а тогда толку не было от норки!…
Норка живет, сударь, все около реки и кормится рыбой, теперь нора у нее, гнездо значит, на берегу, в дупле где-нибудь… Ну, и пойдем мы с собаками, с тенетами, тенета — этакие, просто сказать, мережи, все тенетами слывут, ну, и с острогой*. Собаки, всего-навсего две, да добрые, так и рвутся—заслышали, значит, норку; найду гнездо и давай я колотить по дуплу палкой… Барина я поставлю посередь реки с острогой, и тенета распустим тамо. Вот, значит, как заслышала норка, что дело плохо — и в воду, по земле идет себе, а река мелкая, известное дело, все видать… Собаки так и рвутся; войдет норка в тенета, тут уж ее острогой и добивает барин. Душна только она больно, ой, как душна! Опосля руки-то моешь, чего-то не делаешь с ними, как норка в них побывала: нельзя, значит, без этого и поисть! Белку собака ест, а от норки или от горностоля теперича бежит прочь, только понюхает — и прочь! У, как душна!… Сколько мы так норок-то убивывали, все реки обойдешь в околотке: и Комелу, и Соть, и Зажолку, и Тювеньгу, и Лихтошь, и Лосту — уж потому я и места знаю, не то что все речки али ручейки, так места-то на них кажинное мне ведомо: боготокли где, омут или брод какой, все плёса — все знаю! Леса тоже, пустоши! Со мной, брат, не наплутаешь— куда хошь проставлю!… Тут, как норка порешится, пойдешь за тетеревами, за глухарями, да за белкой.
— Что же, ноне здесь много норок?
— И, как немного! На Комеле меньше, а на Лихтоше от норки толку нет, право слово! Охотников таких не стало! Нынешние охотники маяты принимать на себя не хотят, как бы полегче, без хлопот поохотиться ищут, ну, и денег не жалеют: палят—а все на шаль, лишь бы похлопать, только порох пусто переводят! Теперь тоже с собаками охотятся, примерно хоть юровские господа: псарня чего стоит, что овец собаки
* Острога — железная лапа с остроконечными зубьями, наколоченная на деревянной палке.
передушат, что озими вытопчут, что огородов перепортят, а толку нет, убыток да крестьянам тягота только, значит, шаль одна! А мы ведь что и выручали с охоты: в те поры шкурка молоденькой норки стоила 8 рублев, а большого самца или матки — 10, не то 12. Ну, тоже белок, тетеревов — все продавали в город — всего-навсего рублев по 500, по 600 выручали! В те поры 500 рублев большими деньгами считались, полтысячи, брат! Потом как оба барина, братаны-то, померли, и остались у нас барыни, и жили они в селе до конца жизни. Моя госпожа была барыня бойкая, у, какая!
— А детей не было у твоего барина?
— Нету-с, не было. Как овдовела барыня, так все воспитальников, приемышей, значит, да воспитательниц держала: ну, детей не было, так вестимое дело — кому все добро оставить! Перво-наперво жил у неё какой-то подкидыш, Геранькой звали (Герасим, значит), так все в народе и слыл барчонок Геранька, да какая-то девчонка из городу, почитай, сиротка. И что же, сударь ты мой, жили они, кажись, как брат да сестра, а дело-то вышло неладно… Старуха, ну, и люди тоже, ничего не заприметили, а они так уж снюхались да и больно хорошо поладили, так-то хорошо, что она уж и въявь с подушкой стала ходить. Посердилась, посердилась старуха-то да и решила женить греховодников, вестимо, молодое дело!… Дорог же стал ей Геранька!
Записала она его в городе у нас в мещан, дом и там всякое заведенье для домашнего обихода позакупила, денег убила — сметы нет, да толку не вышло: вышел Геранька пьяный человек, закутил да закутил, значит, все так прахом и пошло! Тут барыня опять взяла уж одну девочку, село продала и денежки все-то на воспитальницу эту ухлопала; была у неё тоже доля на мельнице, да в пустоши: в те поры все так было, все-то доли, общее владение, значит, и по мельницам, и по пустошам, и по селам; у того доля, да у другого доля — и не разберешь! Все барыня порешила да и сама не задолила — на тот свет отшатилась…
Ну, добро, барин, пора! Видишь, дождь какой приударил, а и небо-то, почитай, чисто, откуда только дождь идет, право! Значит, грибной! Давай Бог грибов-то — и рыбенка не понадобится, все заездки порешу! Только для жатвы, вот, не так-то хорошо, да этот дождь ненадолго!
В самом деле, в это время, при ярко-блещущем солнце, Бог весть откуда,~зачастил крупный дождь; по небу волоклись только легкие, как дым, облака, и словно таяли в нем; струи дождя так и блестели от солнца, будто золотистая нитка раскинулась в теплом воздухе, а за рекой врезалась цветная полоса радуги. “Радуга-дуга, — весело протянул Наум, — не давай дождя, давай солнушка-колоколнушка!”
ВГВ. 1859 Г. № 32 (Неофициальная часть)
QQQ
ИОАНН СИБИРЦЕВ
(Спасо-Сеньговский священник)
СЕЛЬСКИЕ ТОРЖКИ
ОБЩАЯ ФИЗИОНОМИЯ СИДОРОВСКИХ ТОРЖКОВ
Торжки, начавшиеся при Богородской Сидоровской церкви очень с давних времён, с продолжением своего существования всё более и более развивались, так что в настоящую пору они по праву могут занять первое место между сельскими базарами Грязовецкого уезда.
Здесь, за исключением торговли лошадьми, можно встретить всё, нужное для хозяйства; можно даже разжиться предметами удовольствия и роскоши на Сидоровских торжках, которые тянутся по воскресным дням круглый год и несколько замирают во время сенокоса, когда крестьянам, составляющим и большинство покупателей, не до торговли, чего и нет.
Тут попадаются вам на глаза целые возы сукна грубого, серого, режемской работы, которым мужичок-волочанин любит опелёнывать свои ноги, всовывая их потом в дюжие липовые лапти, а здесь, в деревянной лавочке, аккуратно сложены концы сукна довольно тонкого и ценного, в которое батюшки кутают дородных своих сынков и дочек. Лавочки в Сидорове также бывают наводнены и шёлковыми материями, а особливо ситцами с объёмистыми лапами или чересчур широкими полосами, где господствующий цвет либо ярко — либо глинисто-красный. В лавочках попадается шерстяной атлас, терно, полутерно, конечно невысокого достоинства, нанка, кой какие пеньковые трико, кумач, серпинка и плис.
Неподалёку от краснорядцев стоят кресла или телеги, наполненные полусапожками, ботинками и сапогами разных размеров и цен, начиная за сапоги на взрослых мужчин от 2 V;, и кончая 4 Уд р. Сапоги в 4 1/2, а нередко, по заказу, и в 5 р. носят наши холостяки или недавно вступившие в супружество, заглядывая часто на свою обувь, как на какую диковинку.
Кстати сказать, что и сторонний зритель поневоле иногда позасмот-рится на сапоги наших щеголей, которые имеют много особенного в соей постройке. Половина голенища, длинного-предлинного, от ступня сложена в мелкие, равномерные складки, а другая — к колену подбита толстой кожей и сверху увенчана увесистой шёлковой кистью, а то и двумя, если кисти не очень крупны.
Пройдохи молвитинцы* нередко предлагают обувь, у которой подошвы посажены на деревянные гвозди.
* Село Молвитино, Вуйский уезд. Костромской губ.
Подальше, на экипажах же жителей Молвитина, разложены картузы суконные, драповые, триповые и шапки из крышки черной и белой, тканые под крышку шапки с отлетом и какие любят носить почтовые ямщики. Только эти последние у нас имеют вязаный или тканый околыш из крученого, сырцового шёлку, верхушку из довольно ценного сукна, искрещенную притом шёлковыми шнурами. Такие шапки по 3 руб.
Желудок особливо не оставлен без внимания на Сидоровском рынке, которого половина едва ли не бывает постоянно загромождена мукой гороховой, крупитчатой, пшеном, рыбой (в Сидорове по рыбной торговле гл. роль играют сухой белозерский судак, свежая и солёная щучина, в значительном количестве севрюга, сельдь и небольшая доля лещей, язей и сигов), постным маслом, пряниками, сайками и кренделями. В Сидорове едва ли нельзя разжиться чаем, сахаром и табаком, не говоря о водке, которой неиссякаемый источник, обильно льющийся из двух питейных домов?!
Здесь же можно достать все вещи, которые мы называем или хозяйственными орудиями, или домашними скарбом, рухлядью. Нужно оснастить священнику или мужичку телегу— в Сидорове они найдут кучу колёс и дубовых, и еловых, могут купить железа шинного, поддоски, втучки! Скрутить ли надобно лошадку — здесь же выберешь конской сбруи и дуг всевозможных сортов. Издырявилась у крестьянина кадка, изъездилисьдровни, износились липовики—иди к Сидоровской церкви, и на её площади всё можешь достать для поправки, починок и пополнения своего обиходного быта.
Даже самая мелочь, без которой впрочем нельзя обойтись в хозйяс-тве, не опущена без внимания на Сидоровских торжках: там сколько угодно найдёшь гвоздей, гвоздочков, шпилек, леек, кружек, напарей, буравчиков, петель, замков, белых железных ковшей, стаканов, рюмок, карафинов, полуштофов, не завидных вилок, ножей и ножниц. Тут же почивают в корзинах, сплетённые из сосновых драней, не совсем-то чистоплотные сальные свечи, покупаемые не редко у скорняков, в Любимском уезде или где инде, а за то очень плавкие.
В заключении всего, на торжках Сидоровских можно сделать значительный закуп льну и скоромного масла, куда и стекается для этой цели значительное число покупателей и продавцов.
Перебивают также холстом — суровыми рядушками, и редко выбеленными, сырой кожей и овчинами. На эти два хозяйственные продукта 8 сентября бывает даже значительный спрос и стоит высокая цена. В это время приезжают в Сидорове мещане г. Галича и охотно забирают кожу овчины для первых квасов.
ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ РАЗВИТИЮ ТОРЖКОВ ПРИ БОГОРОДСКОЙ СИДОРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Сидоровский приход, населённый крестьянами ведомства государственных имуществ, огромный по своей численности (б. 2000 душ муж. пола), обладающий хорошими пахотными землями и покосами по р. Леже, довольно зажиточен, и следовательно, в самом себе носит прочный задаток к успешной торговле. Кроме того, к чести сидоровцев, много есть таких деревень в приходе, которые поголовно занимаются то изделиями кадок и вёдер, то приготовлением плетней из сосновых драней, то работают дровни и колёса, то готовят навои, набивки, векошки, крюки, всё это снадобье, употребляемое бабами в тканье холстов и новин. К тому же в соседстве Сидоровского прихода лежит густо населённая местность, состоящая из приходов: Раменского, Ми-хайло-Архангельского, Баклановского, Леждомского, Ильинского и Сень-ковского.
А сколько уездов и уездных городов, которые также не подалёку от Сидорова. Кроме Грязовца, своего уездного города, не в дальнем расстояние от Сидоровского рынка: Буй, Галич, Любим, да в придачу непоседливое торговое село Молвитино (Буйский уезд, Костромской губ.). После этого можно ли дивиться, огромному скопу покупающего и продающего люда на Сидоровской плошади, особенно в известные дни, каковы: подторжье пред праздником Рождества Богоматери, 8 сент., мясное заговенье и весь промежуток времени, заключающийся м/д устанавливающимся зимним путём и весенней бездорожицей? На тор-жок, бывший на сидоровском рынке в мясное заговенье 1863 г., я намерен гл. образом обратить своё посильное внимание… В этом случае я думаю представить классификацию товаров, привезённых к Сидоровской церкви в указанный момент времени, выставить на вид их ценность и наконец, указать самих торговцев: кто они таковы, оседлые ли жители Сидорова, или приезжие, и сколько тех и других.
Предметы торговли на Сидоровском торжке и на какую сумму их состояло.
Начну с торговли съестными припасами: мукой крупчатой, гороховой, пшеном, постным маслом и рыбой — от сушеного белозерского судака и до севрюги; потому что, судя по времени производившегося Торжка перед масляной, но эти предметы потребления — главный спрос, а следовательно они-то и составляют и статью торговли в это время.
Торговцев съестными припасами было ныне 45 человек. Осматривая каждые кресла (сельские возовые розвальни, с обрешетиной назади), на которые они вывезли свой товар, в то же время записывая ценность товар, в то же время записывая свой товар, в то же время записывая ценность его, я находил, что иной крестьянин вывез продажи на 15 рублей, не более, а другой рублей на 100 слишком (подобных
торговцев было и всего два крестьянина Сидоровской волости, из коих один привез два воза севрюги, а у другаго на креслах разложены были весьма крупныя щуки и сиги, а на других — множество было ценной крупчатой муки и постного масла), большая часть рублей на 25 и 30. Всего же вообще съестнаго товара вывезеннаго на сидоровский базар, было на сумму 1250 руб.
Всех привезших предметы продовольствия было: 5 человек Рамен-скаго прихода, 6 — Баклановскаго, 3 — Ильинскаго, 7 — Сеньговскаго, 4—Леждолимскаго; а остальные 20 человек были сидоровцы.
С лакомствами: пряниками, медом, сахарными, закусченками, кренделями и сайками, приезжало 15 человек грязовецких мещан и пятеро крестьян своего прихода. Стоимость этого товара min 330 руб.
С шапками и картузами было на Сидоровском рынке молвитян 5 чел., доставивших товару по меньшей мере на 250 руб.
С сапогами их же было 5 чел., товару их на 395 руб.
Конская сбруя: оголовки, шлеи, узды, седелки и проч., вывезены были на Сидоровскую площадь тоже молвитянами, в числе 6 чел., оценивших свой товар в 410 руб. С ними рядом стояли два воза подошевной кожи и черной — на переды и голенища, в том числе было много готовых крючков и полукрючков, все это доставлено было из Галича, — на сумму 180 руб. Дубовых древен я насчитал 30 штук, из коих часть продавалась по 3 р. 50 коп., большая доля по 4 и 5 р., а некоторыя даже по 6 руб. След. и этого крест, снадобья было на площади Сидоровской на 120 руб. Продажей занимались почти все мужики Сидоровской волости и малая часть леждомцев.
Дуг — четыре порядочныя партийцы, доставленныя грязовецким мещанином, двумя крестьянами своей волости и одним баклановцем. “Мах” за дуги белыя — 8 и 9 руб., а “min” — 1 руб., а больше таких, что рубля в 2 и 3. А всего этих конских принадлежностей было рублей на 300.
Липовых лаптей, любимой обуви наших мужичков, было на Сидоровском базаре четыре волочуги — рублей на 75. Продавцы — молвитяне. С бондарной посудой: — чанами, кадками, ведрами и боченками, — стояло 20 человек сидоровцев, оценивших своё изделие в 76 руб. Плетней всевозможных размеров, приготовленных из сосновых драней крестьянами Сидоровской же волости, привезено было 200 штук, на 18 рублей.
Черемуховых постилальников, что в кресла кладут крестьяне, было 40 экземпляров, по 30 коп. за каждый, и след., на 12 руб.
И эта торговая статья была в руках сидоровцев здесь же за уряд стояли две волочужки с лубом (корой, снятой с старыхтолстыхлип) и два воза с лутошками (липовые бадожья, с которых сдирают молодую кожицу, лыки, и вьют из нея веревки к липовым лаптям, а иногда лычками лапти и ковыряют, починивают). Хозяева — крестьяне волости Чудцы, Костромской губ., — сказали, что их продажа стоит 17 руб.
С горшками, кружками, рукомойниками и проч., приготовленными обыкновенным манером и окрашенными в желтый и свинцовый цвет приезжало к Сидоровской церкви 7 человек, ценивших товар свой в 28 р.
Льну и кудели и всего было набрано (столько и привезено продавцами) два воза, — 54 пуда, на сумму 174 р., а масла 18 пудов, на 115 р. 20 коп.
Красный товар не стоит помину в описываемый момент времени, когда и сватьбами конец мясное заговенье, а обновы шить так же и холостяками — не время на масляной неделе. А потому если уже обратить внимание на эту отрасль торговли, то в другое время, когда и на красный товар бывает значительный спрос на сидоровском рынке.
Итак, общая стоимость предметов торговли, вывезенных к Сидоровской церкви в мясное заговенье 1863 г., простиралась до 3500 р. с копейками.
Вещь слишком обыкновенная! Да! Но потому, что в ходу был товар громоздкий, но не ценный.
(ВГВ. 1863 Г. Л” 30)
АНОНИМНЫЙ АВТОР
ОПИСАНИЕ ОДНОГО ПРИХОДА В ГРЯЗОВЕЦКОМ УЕЗДЕ
ХЛЕБОПАШЕСТВО
Прихожане наши—почти все крестьяне ведомства Государственных Имуществ, по местному своему положению исключительно занимаются земледелием: губернский город, где, конечно, льзя бы временем нажить копейку, от нашего прихода в 60 верстах, а землёй, и то довольно недурного качества, Господь благословил нас. В большей части деревень наш мужичок высевает на душу крестьянскую четверть ржи, пудов в 10, если не побольше.
И так как все надежды нашего крестьянина сосредоточены на его матушке-земле, то, нужно отдать справедливость, волочанин крепко и налегает на землю. Побывайте в полях наших, и вы увидите огромные груды каменьев, собранных с полос мозолистою рукою крестьянина; но место, на коих может родиться хлеб, а не растёт трава, едва ли вам удасться заметить, исключая треть деревень. Здесь действительно встречаются перелоги или пустопорожние, незасеянные места, но почему? Слишком уж много пахотной земли, а недостаточно сенокоса, и ещё обстоятельство: во всех трёх деревнях народ погоревший. Зато в тех селениях, где крестьяне позаправнее своим житьём, богаче сенными покосами или скотскими выгонами, они дорожат каждою четвертью земли. Пролегает ли у мужичка полоса подле дороги или только упирается в неё, он непременно старается у дороги-то ещё отхватить ремешок
земли. По этому случаю я сам как-то заметил одному своему прихожанину, который обкраивал дорогу, что-де труд и семена пропадут поза-напрасну. “А ты почему знаешь? — от N, с видимым неудовольствием сказал мне крестьянин, — Ну, Бог даст сухую осень, я и нажну здесь снопов пяток, а то земля также проваляется.”
Мало того, что прихожане наши весь свой участок запахивают, многие из них, а особливо небогатые душами, а богатые руками или труженики, кортомят часть земли вёрст за 5-7,8. В отношении преимущественном пред некоторыми другими селениями, оказывает большую услугу дер. П…, населённая временно-обязанными крестьянами, обилующими пахотной землёй. В прошлое лето с деревней П… удачно соперничало и сельцо К…, где двое из помещиков бросили хозяйство.
Подобной неурядицей наш мужичок и пользуется, и берет в аренду пахотную землю довольно выгодно, а сеет на ней большею частью лен, инде, как например, в сельце К…, стоящем вблизи многих деревень нашего прихода, он возделывает все хлеба, как у себя в поле. Льну в иные годы — я это достоверно знаю — коротко знакомый мне прихожанин снимал пудов по 9 обмятого и вытрепанного — собственно с кортомле-ной земли. Три, четыре пуда — это не редкость.
Но в какой мере вознаграждается лотовый труд наших прихожан
земледельцев?
Если не все и не во всех селениях могут похвалиться очень не дурными урожаями, то на это есть опять свои причины, зависящие не от грунта земли. В ином селении большой недостаток в скотских выгонах, а потому, где бы крестьянину выстроить землю и чрез то усилить её плодородие, он таковым полем пользуется как пастбищем. В другом селении тоже почва тяжёлая, чернозёмная, и её также следовало бы лишний раз помять — обычая нет, хотя крестьяне и не терпят недостатка в скотских выгонах. А инде слишком уже много пахотной земли, а мало покосу, следовательно, обработать надлежащим образом землю и руки не доходят, да к тому же большой недостаток и в удобрении. Зато, где успевают путём и чередом походить около земли и снадобить её удобрением, она в свою очередь довольно хорошо и платится со своими владельцами. Вообще, надобно сказать, в лучших деревнях и у лучших домохозяев рожь родится сама 7,8, а в худших и у худших сама 4,5;
средний урожай овса сам 2,5 и 3, пшеницы сама 4, горох сам 5 и 6, семени льняного само 2 и редко-редко 3. Умолот семени льняного вообще бывает самый не завидный и потому особенно, что наши крестьяне при возделывании льна имеют в виду доброкачественность волокна, почему первое — при посеве они слишком щедры на льняное семя, а второе—лён теребят не дозревший. О волокне можно отозваться с выгодной стороны; только обделка льна серовата.
скотоводство
Не поле кормит, а поляна, — говорит русская пословица. Да! И много будешь иметь земли, но плохо её вспашешь, либо скудно удобришь, мало пожнешь, а ещё меньше того помолотишь. Пожалуй, на этот раз, пригорюнившись, скажешь: “Высеял-то я море, да снял горе”. Чтобы и с нашими прихожанами не повторялось то же самое, они более или менее и самое скотоводство подводят под уровень с хлебопашеством, чему, между прочим, способствует возможность запастись кормовыми средствами. Точно наш крестьянин, то на доставшейся ему по наделу земле, то на земле, арендуемой им у казны, накашивает порядком сена, только оно-то, большею частию, очень недоброкачественно. Да всё-таки есть и в значительном количестве, а потому лучшие домохозяева или многосемейные держат штук по 8 дойных коров. Есть и однокоровники, с парой коров, — и это народец либо лентяй, либо обедневший от пожара. Большинство крестьян имеет у себя на дворе трёх коров, Чаще — четырёх. Рогатый скот в жиловых деревнях, где большой недостаток в пастбищах и где, следовательно, скотина в значительном количестве падает в летнее время, и не столько росл и сух, и молока даёт немного, значит, и масла безделицу — фунтов 25, 30. В деревнях же подлесных, где скот до Иванова дня или до 25 мая гуляет по вотчиным покосам, с 25 мая и до половины июля пользуется выбережными собственными выгонами, а с 20 июля, с Ильина дня, снова отправляется на покосы, и скотина довольно крупновата и мягка. Здесь и масла от коровы выкапливают по пуду и больше.
Рабочие лошади у наших прихожан, если не все, то на половину довольно рослы и статны. Есть и такие крестьяне, коим суждено ездить на десятирублёвых лошадёнках — а таких немного, зато есть мужички, особливо, если у них сыновья — женихи, которые разъезжают на лошадках, стоящих 75, 80 целковых. Вообще сказать, 40 руб. и 60руб.—вот цена нашим рабочим лошадям, находящимся у большинства домохозяев. Если наши прихожане и выкармливают в небольших размерах лошадей на продажу, то почти в том только случае, когда им своя воронуха подарит маленького конька. Покупать же сосок, стриганов на стороне, и потом родить и добрить их на продажу, решаются редко из наших прихожан — человек до 5-ти во всем приходе.
Занимаясь разведением овец, крестьяне нашего прихода имеют в виду только свои домашние нужды: — полушубок, армяк, валяные сапоги и проч., а потому они и держат овец непомногу, штук по 6—много-семейный крестьянин, а большая часть—по паре, овцы по три и по четыре. О содержании свиней и слов не заводи со здешним Крестьянином. Он с малолетства привык прихлёбывать мучные овсяные щи и в промежговенье любит также видеть в своем амбаре набитые хлебом сусеки, отчего терпеть не может свиного рода. Зато в 700 домах нашего прихода вы не насчитаете и 7 боровов.
ЛЕСОВОДСТВО
Какая нужда нашему крестьянину разводить лес, когда во многих деревнях ёлки просятся в окно к мужичку? Следовало бы заблаговременно подумать о том нашим прихожанам, что нельзя ли как поаккуратнее обходиться с готовым уже лесом, насеянным и выращенным мудрою и попечительною природою. Обидно со стороны иногда, когда зайдешь в лес и видишь там кучу валежника, разбросанного по земле не столько ветром, как не бережливою рукою крестьянина! Да! Мужичку понадобилась колода для пойла телят, он идёт в лес с заткнутым за кушак увесистым топором срубить закомлистую сосну, откатить аршина в два комель, а всё остальное и пусть валяется. Отчего бы крестьянину остальные две трети сосны не прибрать, по крайней мере, на овинники?
Поедет опять зимой за дровами крестьянин, наваляет берёз, сколько ему вздумалось, да от них-то и отрубает плахи по две, а то, что посучковатее, предоставляет все пережёвывающему времени. Плохой расчёт! Худое хозяйничание. Об этом предмете надобно посерьёзнее подумать правительству и поскорее взять самые энергичные меры, а то иначе, чтоб нашим потомкам не пришлось сидеть в нетопленых избах. От наших близоруких крестьян добра смотреть нечего, когда с языка их очень часто срываются фразы в следующем роде: “Ломи, Петруха! На наш-то век хватит и берёз, и ёлок.”
САДОВОДСТВО
И между нашими волочанами, как заметно, нет-нет да и мелькнёт желание иметь подле своего дома нечто похожее на сад или, по крайней мере, на рощицу. У весьма многих домохозяев торчит пара-тройка черёмух, рябин, а иногда и яблоней, с которых, впрочем, яблоки получаются очень кислы, либо горькие, и собою довольно некрупные. О привязке яблоней здесь и понятия не имеют.
ПЧЕЛОВОДСТВО
Из числа наших прихожан многие держат пчёл, человек более двадцати, только большая часть из них насчитает у себя в пчельнике борта три-четыре, а колод до 15 имеют лишь четыре домохозяина. У первых мёд и воск, если не целиком расходуется на домашнее употребление, то по фунтам распродается соседям; последние, в более счастливые годы, зашибают от пчеловодства и копейку.
Уход за пчёлами обыкновенный, такой, какого держались отцы и прадеды наших крестьян. Ни усилить, ни ослабить тот или другой улей, ни заменить негодную матку годной, ни полечить пчёл, хотя например, от поноса, здешние пчеловоды не смыслят. Словом, здесь пасека отдается на произвол судьбы, зато и жребий её бывает куда как переменчив! С осени, например, Денис втащил в подполье, под избу, где
стоит у него и мелкий скот, преимущественно овцы, 10 пней, а весной, смотришь, он же выносит большее горе, и 4 пня наполнены полудохлыми пчёлами.
СЕЛЬСКИЕ РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ
Вообще, приход наш не ремесленный и не промышленный; у него вся надежда на хлеб и лён: подати из хлеба, наряды из хлеба и праздники из хлеба и льну. Мы можем насчитать до 10 кузнецов, до 15 кой-каких портных, да 2 не сапожников, а кропачей, двух-трёх крестьян, работающих дровни, одного тележника, одного плохого бондаря и до 10 мужичков в состоянии заняться плотнической работой. А тут ещё есть доля пильщиков и плетенщиков или кузовников.
Промыслы: повозить на сплавные реки Лежу и Сеньгудров, брёвен, поторговать мелочным товаром, особливо съестным, подчас сходить в Петербург, чтобы после на вопросы любопытных с какою-то заносчивостью отвечать: “Мы там занимались по тряпичной части.” Чудный промыселок.
ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Обыкновенные просёлочные дороги, с глубокими, по трубину, колеями и с такими же рытвинами и выбоинами; по дорогам не совсем-то исправные мосты, с переломленными мостовинами и не редко без всяких перил. Чрез реки мосты узкие, зыбучие, неоперенные, не обложенные даже бревешками, из нетесаных мостовин, утвержденные на козлах, связанных берёзовыми или черёмуховыми мятыми вицами. Едешь по мосту, так тебя точно в тарантасе и покачивает. Прелесть да и только! На паре, особливо не совсем покойных лошадей либо не привыкших к нашим мостам, не отваживайся и ехать по здешним зыбупинам, перекинутым через реку самой узкой лентой. В противном случае, вашей пристяжной, а нет, так и паре с повозкой и седоком, едва ли не придётся побывать в царстве немых! В мою десятилетнюю службу в здешней стороне подобных опытов было до пяти, и в один из них пристяжная закупалась, а в другой разбила себе зад об огромные, бывшие подле моста камни.
НРАВСТВЕННЫЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ БЫТ КРЕСТЬЯН И СРЕДСТВА К ЕГО УЛУЧШЕНИЮ
Крестьяне нашего прихода, не только состоятельные, но и пробивающиеся своим добром, любят поделиться с нищей братией. А эта братия, особливо из нашего и из соседних приходов, опытно дознав выгоду от христарадничания, не требующего и большого труда к тому же, с каждым годом плодится по осеням и в зимнее время. Говорю по священству, великим и всесвятным именем сладчайшего Иисуса, многие христопросы пользуются как косой, серпом, топором или молотом,
ну, словом, в нашем крае образовался класс промышленных христарадников. Иная девка—кровь с молоком, либо мужикточно боров, а дай ему ломоток хлеба, охапку сенца, ковшик муки, шерсти, сметанки и осенью погуменщины, непровеяной ржи, либо овса лопату. Попробуйте зимой понанимать в работники или работницы дородных нищих, они не постыдятся вам сказать: “Хозяинушко! Мели-ко у тебя работу за 5, 6 руб. сер. женщина, за 10, 11 руб. мужчина всю зиму, между тем как мы в миру 6-то рублей достанем менее, чем в 6 недель.”
Которые посовестливее, так прямо не скажут, а все-таки найдут бездну отговорок, уверток и никак не отдадутся в работники.
Наш простолюдин набожен частью, и говеет, только в том и другом случае он исключительно привязан к внешности. При молитве четки зачало, счетом поклоны, размашистое и крепкое на себе изображение крестного знамения, сплошь и рядом вполголоса на устах молитва Иисусова — принадлежности дорогия, ничем не заменимые и вполне успокаивающие наших крестьян, особенно крестьянок. Но при молитве собранный дух, забвение всякой обиды, успокоение нашего сердца в объятиях отца Небеснаго — вещи второстепенные и едва ли всем знакомы?… Пост тоже внешний, телесный: стоит только в Св. четыреде-сятницу раз в день покушать, воздержаться от масла льняного, и дело справлено. Мыслями, словами и даже делами наш мужичок ещё не умеет поститься и не умеет пользоваться телесным постом, как путём, как средством для снискания воздержания духовного, самообладания. Красть — не охотник наш крестьянин, но если ему приведётся быть обмерщиком, вахтёром, сельским начальником—маха не даст, так-таки и норовит что-либо стянуть. Водки, даже пива, не пьют весьма многие, также и говядины не едят, но зато наводят другим, пьют сладкую и густую закваску и кушают разную пристряненьку(?) до такой степени, что с большим трудом дышат и насилу-насилу шевелятся.
Почти все наши прихожане, как живущие среди раскольников и поддающиеся их обаянию, весьма холодны к Св. церкви, недоверчивы к пастырям духовным, отпадчивы от православия и самых коренных, важнейших, благодетельнейших обязанностей христианских вовсе не исполняют. Поверите ли, есть такие лица в приходе, числящиеся православными, которые по 20 и более лет не ходят на исповедь и ко Св. причастию! В недавнее время я похоронил старого холостяка, жившего от церкви всего в полуверсте, который лишь перед смертию исповедался и, только после продолжительного с моей стороны убеждения и усиленной просьбы, решился приобщиться Св. тайн. А человек был добрый, ко кресту и на благословение к священнику ходил постоянно, делился и с церковью, и с клиром.
Вообще, наши крестьяне в будни редко разрешают на водку и стол имеют самый незавидный, но настал у тебя пивной праздник, у родственника или приятеля, тут уж наш мужичок ловко начинивает своё
брюхо либо пищей, либо попойкой. Так как большая часть наших праздников случается осенью, в самое свободное время и против других времён более богатое, то крестьянин знай переходит из волости в волость, и зачем? Вот каков ответ наших прихожан на сей случай:
“Батюшко! С осени-то и надобно позаправиться. Ведь и скотинку с осени позакормят; шерсть на ней весь год лоснится.”
Не касается до мужика дело, он и ухом не ведёт, ему панибрат и священник, и сельский начальник; пришла нужда, или по крайней мере предвидится, где и возьмется ласковость, кланянье, хлебосольство. Любят здесь побраниться, особливо, когда идёт делёж земли, всякий себе ладит, и вершка не уступит соседу, а чуть какое злоупотребление — бороду обидчику через колено. Да! Страшные здесь охотники и подраться, но не простым кулаком, а непременно коленом, колом, гирей, камнем; после драки не удалось обидеть соперника — в тяжбу, хотя бы она обошлась в десяток рублей или в отплату той же монетой.
Дождётся поколоченный удобного времени и сам не сможет, товарища подговорит и уж даст катку тому, кто раньше его потрепал. Случается, что года по три ратуют с переменным счастием наши герои — волочане.
Молодые парни и девки обращаются между собою слишком вольно и чересчур не совестливы: идёт старик-крестьянин, даже священник, а молодёжь и ухом не ведёт, сидит друг у друга на коленях, обнявшись, либо под ручку изволит прогуливаться. Срамно! Эта же молодёжь в нашем крае, чтоб было на что погулять, полакомиться, гонить и подарками поменяться, тащит из родительского дому хлеб, лен, куделю, шерсть, деньги — всё, что бы ни попало. А отцы и матери как-то очень хладнокровно смотрят на такие похождения, фуражировки своих деток, а матери некоторые ещё из беды, из-под опалы отцов выхватывают сынков и дочек. В одной деревне моего прихода один мужичок нашёл в сене полпуда припрятанного льну сынком его С…; отец было и за волосы, и батожком своего семнадцатилетнего первенца, но как поступила в этом случае сердобольная маменька? “А!…Б!… Что ты бьёшь ребёнка-то? Ведь я, грешница, припрятала вязанку-то льну, на разные мелочи: на выкуп из краски, на поясенки, тесёмки и проч. А сам-то ты такой скупой, мне не уволишь дать копейки.”
Зато до чего же и дошло? Самые девчонки пьют вино напропалую и пьяными являются на повады или беседки и на катьбище.
Набаловались, набесились молодые парубки либо девчата; пришла им охота пожениться, и что же из них многие делают? Парни, хотя и не всегда, но часто же испрашивают позволение у родителей увесть такую-тоф…, чтоб после с ней повенчаться. А девки наперёд передадут лучшее платье своему любезному, хоть он и не богат и стоит на рекрутской очереди, а потом, при удобном случае, и марш к избранному.
Отец невесты-самоходки поупрямится, поупрямится, а потом поневоле смекнёт: платья нет, и дочери нет. Быть может, он бы воротил то и другое, да что проку в дочери, когда она неделю жила с чужим парнем?… Кто её опять возьмёт в замужество? И не воротится ли она в дом родительский с самым незавидным приданым?… Вот вам, потаковщики-батюшки и особливо матушки, и спасибо от ваших дочек, которых вы вспоили и вскормили, и как куколок нарядили! Вот так-то в нашем приходе и нуждаются в родительском благословении в самые важные минуты жизни!…
Разгульная холостая жизнь нередко грязным потоком просачивается и в жизнь семейную, где и бывает причиною ужасных сцен. В прошлое лето крестьянин д. Л. так озадачил своего соседа, непрошенного гостя, на своей повети березовым поленом, что тот раза три перевернулся на месте, а потом, кой-как собравшись с силами, бросился бежать, да на пути угадал самым лбом в курочку, и кожу, начиная с носу, засучил чулком. Об этом обстоятельстве производилось формальное следствие исправляющим должность судебного следователя.
К чести наших прихожан вот так можно что сказать: случилась какая беда у родственника: пожар, червобой, значительная пропажа, падёж скота, остальное родство сейчас готово помочь, кто хлебом, кто деньгами, кто работой, а иной леском. Если родственники делают небольшое приношение хлебом, работой, брёвнами несчастному, то и после не требуют уплаты. А ежели помощь довольно значительная, то и в таком случае долг выжидается очень значительное время. Даже к чужим погоревшим наш приход очень доброхотен, не оставляет всем, чем может, и за то от этих горемычных очень часто можно слышать слова, произносимые от полноты благодарного сердца: “Мир—золотая гора”. Между прочим, обилием доброхотных подаяний можно объяснить и то обстоятельство, что здесь после пожару весьма скоро поправляются, тотчас же успевают построить себе домы, лучше прежних.
Добра у нашего мужичка очень порядочно под руками, только он что-то плохо им распоряжается, у него нет золотой середины. В простое время, даже в навозницу, сенокос, жниву — самыя трудныя работы, мужик мрет на мучных щах, а настала осень, когда и молотьба уже кончена, наколет он ягнят, да и давай их уписывать, так что к Рождеству у иного не останется косточки. В Пасху не испечет наш прихожанин беленького пирожка, не сварит бражки, а в пивные праздники: Тихонов, Николин день, особливо на масляный, — вороха пирогов на столе, ендова и бутылка со стола не сходят. В лес мужик идет, перебег отрепный, нередко такие же и гужи; в город под извозом, липовый лапоть, неуклюжий малахай, армяк — не засмотришься; а пришла катунья-масляница, на лошади 35, 40, 50 руб. сбруя, 30 рублей сани, на самом сукно 2 руб. 50 коп.-З руб., сапоги 5 рублей, словом, прежний барин от 300 душ. Изба в небо упирается, двор снаружи вычищен, выскоблен, а загляни внутрь крестьянского дома — нечистота, неопрят-
ность, визбеумужика коровы-то стоят, икорм-то тут, и очинки-то от лык, и огарки от лучины, и шёптаники, и онучи тут же валяются, и чего-чего только нет в курной хате волочанина!…
Чем улучшить нравственный и материальный быт наших прихожан? Как пособить горю? По нашему крайнему разумению, вот как: для улучшения нравственности крестьян, по крайней мере на будущее время, в новом поколении следует устроить школу в значительных размерах и на прочных основаниях, и здесь-то нужно потрудиться положить верный зародыш добра в сердца детей крестьянских.
К устройству же школы и к найму учителей наш приход представляет полную возможность: народ и сам по себе не беден, и может за каждого обучающегося сына или дочь отдать руб. сер., а кроме того хлеб в запасных магазинах гниет да вахтеры воруют, и еще с мельниц в нашем приходе получается аренды каждогодне более 300 руб. серебром.
Заведение школы пролило бы немалый свет и на материальный быт крестьян, особливо, ежели бы в них повели сердечную и разумную речь об упорядоченном сельском хозяйстве и стали внушать малышам крестьянским, как им впоследствии лучше, благоразумнее распределять свое добро, какой может произойти для нас вред от неопрятности, неряшества. Те или другие внушения, делаемые наставниками в школе, пусть бы сии последние переводили в самую жизнь, сколько-то возможно для крестьянских детей.
Сама школа должна быть так устроена и содержима, чтоб она служила самым живым, убедительным доказательством внушений учителей относительно чистоты, опрятности, возможного хоть небольшого изящества. При здании, где помещена была бы сельская школа, очень уместен небольшой сад и цветничок, и здесь-то по воскресным и праздничным дням священник-учитель, окруженный маленькими питомцами из простонародья, мог бы беседовать с ними о Боге, Творце, Промыслителе и Любвеобильном нашем Отце и в окружающей его среде сколько бы мог найти самых наглядных доказательств на излагаемые истины?!… И самая душа поселян, окруженных зеленеющими и тихо нашептывающими деревьями, услаждаемых благорастворенным воздухом и пахучестию цветов, как-то становится мягче, поддатливее благим впечатлениям!
Во всяком случае, доброе устройство и содержание здания сельской школы не может не сопровождаться добрыми и следствиями. Крестьянский мальчик или девочка, если Господь приведет им хозяйничать, обзавестись своим домком, и в постройке, и в содержании, и в обстановке своего жилища попользуется образами, вынесенными ими из школы.
Но как бы в сельских школах мы ни навострили мальчиков рационально вести хозяйство, например, и землю вот так-то обрабатывать, за недостатком покоса сеять такие-то травы, для сбережения трудов и капитала завесть такую-то сподручную машину — все проку не будет,
коли будет существовать такой порядок владения землею, каков теперь, по душам, чрезполосно и с переделами каждую ревизию да еще, ежели не устроятся в самом ближайшем расстоянии не большие, незатейливые, приспособленные к местности, фермочки, где мужик поневоле мог бы видеть собственным глазом пользу, прибыль от более разумного, упорядоченного хозяйства, мог бы сам проверить выгоду от машины известной и потом купить ее. Наш русак—чудак, на слово не верит, а дай ему пощупать.
В видах, между прочим, поддержать охоту в трудолюбивых крестьянах-земледельцах к своему занятию и вспомоществовать им на этом поприще, благое бы сделало дело правительство, ежели бы разбраковало нищую братию, особливо расплодившуюся в нашем крае нынешнюю зиму. Рекло бы оно дородным христарадникам, могущим заняться какой угодно тяжелой сельской работой: “Друзья-тунеядцы! Не пора ли вам перестать есть чужой хлеб, облитый потом ближних ваших? Не время ли вам скинуть с себя дремоту, бросить долгое перевертывание на постели, почесыванье довольно толстой шеи и мягких боков? Принимайтесь-ка, особливо при настоящих обстоятельствах, толкающих все сословия к напряженному труду, за работу со всем усердием, не жалея ни плеч, ни рук, а к тому же почаще будите дремлющий свой ум-разум”.
Безродным же, увечным, престарелым да будет отеческий привет со стороны правительства, да окажется самая действительная, сердобольная, истинно христианская помощь. Словом, помоги, Господи, устроить в благословенной, православной России богадельни повсюду, как и школы при церквах, где бы беспомощная нищета питала и согревала свое тело, а не менее того и свою душу. И это очень возможно, даже удобоисполнимо. На устройство богаделен, призрение в них бедных лица всех сословий обяжутся вносить ежегодную посильную лепту, хотя бы предписанную гражданским законом, будетлиэтажертва заключаться в хлебе или деньгах. Чем мне ли, либо кому-нибудь из наших прихожан раздавать пудов по десяти печеного хлеба, часть льну, зерен нищей братии врассыпную, нередко с тайным осуждением года, часа и оговором, лучше же это количество хлеба пожертвовать в богадельню с полною уверенностию, что мое приношение пойдет в пользу истинных бедняков. Но, я уверен, и половины не сойдет с меня для поддержки богадельни, куда поступят бедняки — мои прихожане, против того, что я теперь раздаю в год. С окончательным запретом ходить по миру при устройстве богаделен две добрые трети мнимых нищих исчезнут с лица земли.
Здоровые, но обедневшие от пожара, скотского падежа, червобоя, градобоя или чересчур многосемейные, где еще дети мал мала меньше, могут получать, между прочим, посильное вспоможение из остатков пожертвований на богадельни.
Сказать правду, ежели бы осуществился предполагаемый нами порядок вещей, то, кроме нравственной пользы, неминуемо отсюда могущей проистечь, для дающих и приемлющих в настоящую пору, была бы и польза материальная. В рабочих руках, как инде, а наш краёк сильно нуждается. Огромно ли, например, моё хозяйство, четвертей пять высеваю ржи, штук до восьми держу коров, но и тут часто-часто раздумье берёт, как справиться с делом?… Настанет особливо зима, и болит сердце, где и как найти работника, либо работницу. Понанимаешь иногда того, другого мощного нищего — не туда и едет… Бросишься по скудным своего, соседнего прихода, только и слышишь: “Нельзя, недосуг.” А на поверку это “нельзя” — половина семьи, куда ты приехал, разбрелась по миру.
Рачительные и смыслящие домохозяева из крестьян, из нашего брата, гг. помещиков, поуспешнее и повеселее повели бы дело земледелия, когда бы явилось возможно достаточное количество рабочих рук. Опасаться того обстоятельства, чтоб слишком не упали цены на работников и работниц, когда все способны будут заниматься делом, а не бродяжничать, нет нужды. В матушке России земельки довольно, и, след., всем есть над чем потрудиться, на всех работы хватит. К тому же, надобно помнить, сколько грехов в нашем хозяйничанье, сколько опущений, самых важных, нередко потому собственно, что некем взять?!…
Вот я сам, грешный, вижу настоятельную нужду троить землю, усилить скотоводство, тем более, что имею я часть купленой сенокосной земли, но как уладить дело?… Благодаря Бога, мы с женою потеем над работой, мозолим свои руки, но один, положим, и двое — и у каши неспоры. К лету-кой — как уже подыщем работника и работницу—и то сплошь и рядом незавидных, а к зиме иногда и найти не можешь, а и попадёт, так такой олух, хоть и с ним-то в воду, нынешнюю зиму был у меня такой доброхот. Стыда, совести — ни капли, а лени, неуменья, нехотенья — тьма-тьмущая!
А вчетвером, будь мы ловки-переловки, прилежны-преприлежны, с летней работой толком нам не управиться. Вот иногда бы и прихватил лошадь и мужика потроить землю — либо найти не можешь, либо дай в день 80 коп. сереб., а потом пои-корми крестьянина и его скотину, да последнюю ещё и овсецом. Смотришь—Лазарь три раза постоловал, его воронуха столько же раз, а три выти, по меньшей мере, стоят 60 коп. сер. Именно! Ведь по 7 коп. надобно взять с мужика за кормежку; лошадь ведь днём и ночью съест пуд хорошего сена и полпуда овса. След., 7+7+7+14 за сено + 25 коп. за овес — 60. Итого: 60 + 80 == 1 р. 40 коп., вот и летняя поденщинка! Батюшка! Хозяйничай, как знаешь. Зато по недостатку рабочих и слишком значительной дороговизне на работы, хоть до упаду сами бьемся мы с работой, но результат нашего хозяйничанья — сами с семьей, состоящей кроме нас из трех человек, только сыты. И дай Бог, чтобы проданным хлебом и прочими кой-какими хозяйственными
продуктами окупить работников. В третьем годе, так последнюю статью не могу покрыть я доходами от хозяйства — 25 руб. сер. брал из жалованья.
Прямая и непременная обязанность пастырей и с церковной кафедры, и в домашнем собеседовании — объяснять своим пасомым, как необходим, как благодетелен труд для человека, и как он вожделенен для Царя Небесного, и для Царя земного, и наоборот, как тяжко грешат против себя, против Бога и людей те, кои имеют возможность сами пропитывать себя, а между тем живут на чужой счет, злоупотребляя при этом великим и святым именем Сладчайшего Иисуса.
Чем мне заключить свое описание, как не словами, что речь моя, хотя и безыскусственна, мужиковата, но вполне правдива. Отделкой, полировкой статьи, ей-ей, и заняться было некогда.
(ВГВ. 1863 Г. № 1,2,3, 6, 7.)
QQQ
УСАДЬБА ВАСИЛЬЕВСКОЕ
(Из автобиографии Владимира Николаевича Морозова 1)
Васильевское, как называется усадьба2, в которой я родился, лежит на ровной, но высокой местности, со всех сторон окружена лесом, в котором еще и теперь водится много зайцев, лисиц, тетеревов, рябчиков, куропаток и даже волков, осмеливающихся подходить зимою к самой усадьбе и нередко наносящих вред, особенно собакам.
Усадьба находится в сорока верстах от города Вологды в стороне от Пошехонской дороги и в 30 верстах от уездного гор[ода] Грязовца, почти на границе Гряз[овецкого] уезда и Пошехонского.
Равнина, на которой лежит Васильевское, слегка поката к востоку и югу, что позволяет, несмотря на окружающий усадьбу лес, видеть очень далеко в эти стороны, чуть ли не за 35 верст.
Вид, открывающийся на восток, особенно прелестен. И хотя “родина мила сердцу человека не местными красотами…”, но красивое местоположение в связи с приятными воспоминаниями о детстве мне особенно дороги и милы.
Если бы я обладал искусством рисовать хотя бы посредственно, то обязательно срисовал бы ландшафт. Прямо с балкона видно Никольское озеро, названное так по монастырю в честь Николая Чудотворца, который расположен на противоположном берегу. До озера от усадьбы 8 верст. По его берегам раскинулись деревеньки, жители которых ловят уйму рыбы, и рыболовство составляет один из источников их существо-
вания. Ближе к горизонту, выше вод озера, которое особенно прекрасно в утренние часы, когда солнце как бы купается в воде, видна линия леса, которая на северо-востоке быстро обрывается, заканчиваясь рощей села Покровского.
Ближе к северу даль закрывается ближним лесом и небольшою горою, на которой расположен местный храм в честь Михаила-Архангела, вправо от которого и дальше между линией лесов, тянущихся с севера на юг, и лесом, примыкающим к озеру, виднеется среди зеленеющих полей ближний приходской храм Иоанна Богослова.
К юго-востоку от озера лес понижается постепенно, в одном месте доходя до линии горизонта, в этом месте виден в ясный день шпиль собора Св[ятого] Петра и Павла, что в Грязовце.
Кое-где среди синего фона лесов, который вблизи озера не так-то высок, виднеются зеркальные струи рек, впадающих и вытекающих из озера, из которых самыми главными считаются Соть и Комела. Дальше к югу видны на высоких горах села: Чернецкое, Барское и Покровское-Углич, храмы которых резко вырисовываются. Еще правее начинается уже Ярославская губерния, центром видимой части которой является высокая гора, на вершине которой находится обитель “Исакова пустынь” с ее многочисленными часовеньками, реагирующими на глаз сквозь низкий окружающий монастырь лес*.
До 9 лет я прожил в Васильевском, пока мой отец3, земский гласный, еще раньше выбранный в члены управы, совсем не переехал на жительство в Грязовец.
Публикация Л.Н. МЯСНИКОВОЙ
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Автобиография составлена при сдаче экстерном экзаменов за 7 класс в Вологодской мужской гимназии.
2. Усадьба Васильевское принадлежала крестьянину Морозову Феофилакту Ивановичу, деду автора //ГАВО, ф.496, оп.54, д.18, л.193 об, 194.
3. Морозов Николай Феофилактович — коллежский регистратор, заместитель председателя Грязовецкой уездной земской управы //Адрес-календарь Вологодской губернии на 1904—1906 гг. Вологда, 1904, — С.64.
* Так в документе.
QQQ
МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРУ ГРЯЗОВЕЦКОГО УЕЗДА
Фольклорно-этнографический раздел настоящего сборника состоит из пяти частей. Четыре из них записаны в 1923— 1925 гг. в Грязовецком уезде этнографами-любителями и поступили в архив Вологодского общества изучения Северного края. Пятая часть — фотографии, скомплектована нами в музейных и архивных хранилищах. Открывает раздел запись посиделок (посиде-нок) Ведерковской волости, сделанная в 1924 г. студентом Вологодского педтехникума Ф.Ф. Поздиным (ГАВО, ф. 4389, on. 1, д. 175.) Запись — не буквальная стенограмма происходящего, а скорее попытка художественного изложения деревенского игрища. Необходимо отметить, что картина, нарисованная этнографом, достаточно типична; особенности посиделок, их мелкие, так важные для исследователя, детали остались, за немногим исключением, за пределами повествования. Значительные места занимают в записи посиделок общие “философские” рассуждения автора, которые характерны для своей эпохи, и потому имеют историческую значимость. Пример такого рода — рассуждения о небходимости для русской деревни книжно-журнальной продукции (с. 242). Неожиданно интересно выглядят на наш взгляд рассуждения о нравственности деревенской девушки, “которая целуется с молодцом почти на каждом шагу”. Она, по мнению Ф. Поздина, “гораздо честней и лучше той городской (полуинтеллигентной) барышни, которая танцует с открытой грудью и кажется таким невинным существом”.
Эта мысль, мимоходом высказанная в записках и к тому же зачеркнутая в оригинале документа, достаточно любопытна. Психология деревенской девушки рубежа XIX—XX веков могла бы стать темой самостоятельного историко-социологического исследования, настолько необъятен и практически не изучен этот вопрос.
Одним из наиболее интереснейших источников по теме являются посиделочные частушки.
Приложенные к материалам вечерины и дополненные двустишиями из других тетрадей, записанных в Грязовецком уезде в те же годы (ГАВО, ф. 4383. ед. 329—331,358), они составили объемный фонд, разделенный нами тематически на несколько частей. Мы позволили
себе некоторое вторжение в материалы этнографов, разместив частушки в определенном порядке, иначе, чем это сделано в полевой записи. В нескольких случаях удалены повторы, не меняющие смысла изложения.
Грязовецкие частушки, публикуемые в сборнике, — женские. В материалах этнографов отмечено, что мужской фольклор посиде-лочного типа сплошь нецензурен и поэтому не записан. Образцы такого “фольклора” хорошо известны современному читателю. Десятки матерных частушек опубликованы в последние годы в нескольких сборниках*. Эта наиболее устойчивая часть частушечного наследия бытует и поныне.
Частушки деревенской девушки иного плана. Концепция двустишия построена на передаче чувства, настроения, как мимолетного,
Дорогая ягодиночка, не стой передо мной;
Захватило ретивое, не отлить будет водой,
так и хорошо продуманного, так сказать с намеком на будущее:
Я люблю и уважаю дролину семеюшку;
Меня и дома не ругают, не бесчестят девушку.
Грязовецкие частушки вполне определенно можно разделить на четыре любовные темы: “Любовь — страдание — разлука — измена”. Данное деление характерно для любого другого региона. Некоторые двустишия грязовецкого фонда широко известны:
Дорогому за измену цветик розу подала;
Эта роза означает: любовь тайная была,
другие понятны разве что местному населению да специалистам:
Что оттуда-то идут наши-то поприхехе;
На них белые рубашечки и брюки галифе.
Из контекста ясно, что речь идет о кавалерах,
Социально-политические события начала XX века разрушили четырехчастную тематику деревенской частушки, расширив репертуар посиделочной певуньи целым рядом острых и политически небезопасных тем. Его открывают двустишия, посвященные солдатской службе. В условиях мирного времени частушки вполне укладывались бы в раздел “разлука” вышеозначенной схемы.
* См. Три века поэзии русского эроса. — М., 1992; Русский Декамерон. — М., 1993. и др.
Первая мировая война внесла новые интонации в девичьи страдания:
Много крови пролили, около Германии — Всех хорошеньких ребят прибили да приранили.
Мотив гибели “дролечки” в военных частушках выходит на первый план, подчеркивая тему верности суженому:
Не судите, бабоньки, что в девушках осталасе;
Как бы не было войны, с дролей не рассталасе.
События революции и гражданской войны породили новую группу частушек — дезертирские. Судя по грязовецкому материалу, симпатии посиделок на стороне солдат, скрывающихся от призыва и службы в Красной Армии. Гражданская война называется “советской”. Она причина новых терзаний деревенской девушки:
Не хотели расставаться — нас неволя развела, Развела нас с ягодиночкей Советская война.
Настроения деревенских парней, судя по частушкам, однозначны и против войны, и против власти:
Полюбила дезертира — с дезертиром горюшко;
Красна Армия в деревню — дезертиры в полюшко.
Частушки показывают социальную напряженность в деревне, конфликт новой власти и старого уклада, постепенно перерастающий в нелицеприятные отношения, а порой и в открытую ненависть. Подборка частушек времен гражданской войны наглядно иллюстрирует это:
Я под бочкой сижу, а на бочке крышка;
Скоро белые придут — коммунистам крышка.
Не обошла стороной посиделки и экономическая разруха. Как только не “пробирали” большевиков на деревенском гуляний. Соответствующие страницы публикации дают обильный материал для размышления. Главные действующие лица антисоветской частушки — Ленин, Троцкий, Зиновьев. Показательно, что деревня 1924 г. совершенно не знает Сталина. Пройдет немногим более десятилетия, и газеты, о важности которых для деревни убедительно писал Ф. Поздин в записях посиделок, принесут в деревню профессионально сложенные верноподданнические частушки совсем другого
характера. И уже младшие сестры грязовецких барышень пойдут на общественные поля, распевая про новую жизнь:
Я возьму цветочек алый, приколю себе на грудь, Дорогой товарищ Сталин, вывел нас на светлый путь.
Настроения деревни в 1924 г. были принципиально иными. Даже тема любви, пробившаяся сквозь череду политических частушек, носит конфронтационный характер:
Соловей в лесу поет, хорошенькая птичка, Мой миленок — большевик, а я-то — меньшевичка.
Грязовецкие частушки были отмечены членом Вологодского общества изучения Северного края (сокр. ВОЙСК) профессором Александром Александровичем Веселовским, который поместил часть политических двустиший в “Описание рукописей архива ВОИСК”. В библиотеке Вологодского музея-заповедника сохранились гранки этого издания, где и значатся Грязовецкие антисоветские частушки. Сборник подвергся цензуре, и все, что не отвечало требованиям момента, сократили. Удивительно, как всемогущая власть “просмотрела” в главном архиве области эту открытую контрреволюционную пропаганду. Впрочем, ответ ясен: неразборчивые карандашные письмена “заинтересованные лица” просто не прочитали.
Коротко охарактеризуем следующие два публикуемых источника. Оба они относятся к свадебному фольклору. Свадебный обряд д. Вохтога Раменской волости был записан в 1921 г. студенткой Вологодского педтехникума Анной Алексеевной Афанасьевой.
Свадебные материалы изложены в повествовательной форме, снабжены записями причетов. Было бы любопытно сравнить архивные данные с экспедиционными записями современных фольклористов. Однако, доступа к фонотеке Вологодского пединститута, где содержатся соответствующие материалы, нам получить не удалось. В силу чего при составлении данного раздела мы ограничиваемся публикацией вохтогской свадьбы и приговоров дружек на свадьбе Ведерковской волости, оставляя анализ этих источников будущим исследователям.
Обозрение фольклорно-этнографического раздела было бы неполным без краткого описания фотографий по соответствующей тематике, включенных в настоящее издание. Они хранятся в фондах Вологодского музея-заповедника и областного архива.
Изобразительный материал делится на три группы: ряд фотографий,
отложившийся в фондах ВГИАХМЗ, посвящен истории грязовецкого жилища. Часть материалов была отснята в середине 20-х годов, возможно, в связи с публикацией краеведческого фельетона Ф. Либликмана “Из быта Лежи”, в приложении к которому и помещена панорама д. Жерцоково (фото № 8(а)), часть — в 1929 г., о чем свидетельствуют учетные записи. Они дают общее представление о типах крестьянских домов Грязовецкого уезда. К сожалению, съемка материалов производилась, по-видимому, любителями, что отрицательно сказалось как на качестве материалов, так и в выборе экспозиции.
Другой комплекс этнографической фотографии посвящен ремеслам, земледелию и скотоводству местного населения. Фотографии №№ 9(6) и 11 (а) публиковались ранее в монографии Б. Богданова, В. Воровского “Маслодельные артели в Вологодской губернии.” —Вологда, 1915. Фотографии №№ 5 и 7, посвященные ручной обработке льна, пожалуй, наиболее широкоизвестны. Кроме специальной литературы они были опубликованы в книге В. Белова “Лад”. Материалы комплекса дают самое общее представление о сельскохозяйственных орудиях труда, способах обработки льна, деятельности маслодельных артелей.
Сквозным, проходящим через фотографии всего раздела, является комплекс, посвященный народной одежде. На фото № 1 мы видим пожилую женщину в праздничном наряде н. XX в.: костюм, сохранивший древний элемент, вышитый золотом головной убор типа “зборник” (см. статью Фортунатова). В остальном одежда типична для населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от больших проезжих трактов. Ситцевый в рисунках сарафан, поясной передник, кофты типа “казачок” из дорогой атласной материи, шелковый платок. Образцы подобного праздничного костюма помещены на фото №№ 13, 16. По-видимому, в начале XX в. женская шапочка с золотой вышивкой в уезде уже анахронизм. Подавляющее большинство женского населения носит только ситцевые платки.
Фото .№15 — уникальный образец, зафиксировавший посиделки;
д. Раменье Лежской волости, местности, где были записаны Ф. Поздиным Грязовецкие посиделки. На фотографии (оригинал очень плохого качества) группа молодежи. Девушки прядут. На полу, сидят парни. Это вторая известная фотография вологодских посиделок, первая была опубликована нами в книге “Тайну клада не гарантируем”. —Вологда. 1993.— С. 5.
Обратим внимание на костюмы. Судя по изображениям, съемка относится к 20-м гг. XX столетия. На девушках вполне городские (пролетарские) наряды: ситцевые платья, кофты, широкие юбки. Парни одеты в короткиекуртки с отложными воротничками, рубахи аналогичного покроя с пуговицами на планке. На голове одного из них круглая шапка с меховой опушкой.
Летний мужской праздничный костюм, представленный на фото № 13, обычен. На головах молодежи и взрослых фуражки, на ногах онучи или кожаные ботинки на шнурках. Рубахи-косоворотки пиджаки или полупальто — основной вид мужской верхней одежды.
Значительная часть фотографий содержит информацию о взрослой и детской рабочей одежде обоих полов. Как правило, это обычная, часто неновая одежда, она не отличается какими-либо профессиональными признаками.
Настоящий обзор далек от исчерпывающей полноты, тем не менее он позволяет связать материалы раздела и представить соответствующие стороны крестьянского быта.
QQQ
А.В. БЫКОВ (г. Вологда)
ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ПОСИДЕНКЕ
Ф.Ф. ПОЗДИН
I. Ночь ещё не успела всплошную покрыть своим саваном длинные ряды домов захудалой деревни, как уже в одном из них засветился огонёк, запивая своим светом сквозь двойные рамы окон пушистую полосу снега. И будто из неведомой дали спешили на огонь одна за другой с прялками деревенские девушки. В этой избе была посиденка. Войдя в избу, как водится по обычаю, каждая девушка крестится, говоря:
“Ночевали здорово!” Кругом оглядываясь и, перебросившись с хозяйкой двумя словами, снимая с плеч тёплую шаль, садится на лавку и начинает прясть. В избе всё лишнее прибрано, что бы могло мешать. Наконец, без всякой работы, приходят молодцы, те из них, у которых есть “зазнобы”, скоро подсаживаются к девушкам, несмотря на то, что и без них тесно, так сидят до тех пор, пока не надоест, частенько поглядывая на свою “игровую”, нарочно мешая ей прясть. А те, у которых нет “зазнобы”, уходят в чужую деревню или же тут находят другое занятие, садясь тесным кругом и даже ложась, играют в карты “в козла”. Наконец “посиденка” собирается в полном своём составе. Девушки всё время поют песни-частушки и редкость, когда затянут длинную.
II. Частенько девушки выбегают на улицу послушать: не идут ли откуда-нибудь гуляки, (хотя на “посиденке” много и своих, но все они надоели), в том числе и их зазнобы, убирая в куть свои “приселки” или прямо сдавая хозяйке дома на хранение, зная озорническую политику своих молодцов. А молодцы, в свою очередь, сходят в куть, возьмут веретено да и спустят нитки, а иногда и кужель подпалят или засядут за пряселки и не дают до тех пор, пока девушки их не поцелуют. А иногда так разбалуются, что и пряселки поломают. Другому не хватит на лавке места, ну, зато и валяется по полу, да и подкатится к своей милашке, а потом и схватит зубами за кончик вертящегося в воздухе веретена, ну, что тут делать, так и сломает. Поругается девушка, да ничего не сделаешь. Ясно, каковы в “будни” на посиденках занятия наших молодцов. Редко на их счастье явится из чужой деревни партия пьяных ребят, ну, тогда и пошли гулять. Девицы сразу же убирают пряселки, и начинается отплясывание “Зайчика”, “Елизаровского” и “Березки”, иногда и нашим молодцам бывает работка, затеют пьяные драку с ними или же между собой, ну, тогда и польётся кровь как из баранов; кто с ножом (кинжалом), кто с наганом, кто с тростью, кто с чем попало под руку, все вокруг вооружатся. В будни это бывает очень редко, а в праздники — обычная картина. Тогда всякий старается напиться самогону от большо-
го до малого и запастись ножом в пол-аршина или же тростью фунтов в семь. Выпьют на грош, а нашалят на копейку—такова уж видно русская натура.
III. Да и правда, кто из вас возмется просидеть целый вечер сложа руки и ничего не делая. Но ведь и деревенский парень такой же человек, ,как и все, хотя груб и неотесан, он не может просидеть целый вечер сложа руки, а таких вечеров не один и не два, а целая зима. Для него нет такого вечера, когда бы он не пошел на посиденку. Иногда так за день наработается, что руки и ноги болят, а все-таки посиденка влечет к себе. В таком случае он и старается заполнить пустое время игрой в карты, столбушкой, такой игрой, когда парень уходит по полати и кричит:
“Горю”, а девушка его выкупает поцелуями и т.д. Девушкам надоест заниматься однообразной работой, они также вполне сочувствуют этим играм, принимая в них живое участие, иначе и быть не может — не ;станешь играть, молодцы рассердятся, тогда в следующий раз и на посиденку не являйся. А что значит для молодой девушки не ходить на посиденку и сидеть зиму со своей старухой-матерью? Это всё равно, что живой лечь в могилу.
IV. Кто не знает, как нужна русской деревне газета, книга, журнал, все мы об этом только говорим и пишем, но в деревню нужна не только одна книга, а в деревню нужен человек, умеющий призить любовь к книге и •умеющий привлечь к культурной работе эту, не делом занятую деревенскую молодёжь. А этим умеющим человеком является наш передовой .строитель новой жизни — педагог, которому, как не надо шире, открыта эта дорога. Итак, будем надеяться, что за просвещением и развитием самых новых учителей последует и просвещение той толщи русского невежественного крестьянства, в среде которого они вращаются. Над каждой волостью и даже деревней должно быть шефство какого-нибудь культурного центра.
V. Но что бы вы не говорили о той деревенской девушке, которая целуется с молодцем почти на каждом шагу, она гораздо честней и лучше той городской (полуинтеллигентной) барышни, которая танцует с открытой грудью и кажется таким невинным существом. Последняя во много раз грязней той деревенской тихой и скромной девушки, которая целуется у всех на глазах. Правда, и деревню город заразил своей обратной культурой, как говорят деревенские бабы: “Больно уж бойки нынче девки-то стали, как стрекозы.” Беременность деревенской девушки — это редкость, если и бывает, то ложится чёрным пятном и вечным позором в глазах других на всю её семью и природу.
VI. С самого начала вечера и до конца на посиденке пиликает однотонно тальянка, а иногда и две (начинают появляться полбаяны, но мало). Другой раз надоест молодцам сидеть, встанут, да и спляшут с девицами “зайчика”. Но чтобы одни девицы при ребятах поплясали, это никогда, а если попляшут, то после того, как молодцы начнут вытаскивать с лавки по очереди одну за другой на середину пола. Да и сами молодцы на перепляску тоже ходят редко. В будни пляшут мало, потому что девицам нужно прясть, иначе спрашивают дома: “Почему мало сегодня напряла?” Зато в праздники весь вечер только и состоит из одних плясок: “Зайчика”, “Березки”, “Елизаровской”, “Мятелицы”, “По-печной” и т.п. На полу спорят картёжники, в одном углу сидят парень с девушкой и говорят о чём-нибудь такую глупость, что смешно и слушать, а в переднем углу гармонист наигрывает — рвёт свою потёртую гармонь, бойкий хор девушек поёт однообразные по мотивам, но интересные и глубокие по содержанию песни-частушки, под полатями, у дверей или сидя на пороге, целая толпа маленьких молодцов преспокойно покуривает из оставленной старшими их товарищами сигарки, иногда и сами завёртывают паклю, а то и мох, так как табак для них недоступен, но всё-таки курят, подражая старшим.
Такова в будни картина нашей посиденки. А какова же внутренняя жизнь этих деревенских девушек и молодцов?
Для этого мы вернёмся к тем песням-частушкам, которые целый вечер льются рекой с языка девушек, (песни же молодцов в большинстве принадлежат к нецензурным). Таков уж видно русский народ: и в горе и в радости песню поёт. Да кому же и петь, как не этой девушке, которая знает свою будущую неприглядную жизнь замужем. Она в каждой песне, в каждом слове старается напомнить себе об этой весёлой девичьей жизни и задуматься над той будущей, делеко не для всех лёгкой и привлекательной, жизнью полной слез и горя в семье своего “сужено-
ва”.
Каждая девушка стремится подыскать себе жениха, мало того, который бы нравился, но чтобы “быть любой в его семеюшке чужой”. Если девушке понравился какой-нибудь паренёк, она старается его завлечь: передаёт ему об этом через свою подругу или же, когда он не догадывается, сядет на колени к другой, она в это время старается запевать те песни, по которым бы он мог догадаться. Частенько девушка так влюбится в своего “милово”, что всё на свете немило, и тогда она все свои чувства старается, хотя и с некоторою оборванностью, уложить в эту коротенькую песенку-частушку, где каждое слово говорит о многом.
(Грязовецкий уезд, Ведёрковская волость 1924 г. ГАВО, ф. 4389 on. 1. ед. хр. 175.)
QQQ
ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЧАСТУШКИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Любовь
Запевай, подружка, песню, голоса-то схожие;
Из одной деревни ходят на лицо похожие.
Что оттуда-то идут наши-то поприхехе;
На их белые рубашечки и брюки галифе.
Наклонилася, умылася водицей ключевой;
Я нечаянно влюбилася в тебя, мой дорогой.
Не любила — все хвалили: “Больно парень-от хорош.” Полюбила — стали хаять: “На мазурика похож.”
Поела бы я ягодок морошки;
Полюбила паренька из-за большой до(рожки).
Посиденка седни рядом, отойди, игровой прочь — У меня родимой батюшка доглядывать охочь.
Я иду, а ты не чувствуешь, высокая гора;
Я люблю, а ты не веришь, ягодиночкя моя.
Среди ночи пробужалась, садилась на кровать, Свои глазки открывала, начинала тосковать.
Не люблю я деревенских, не люблю городовых;
Люблю литейнова завода из депа мастеровых.
Широка и быстрая речка каменистая;
Уважительная я, капризной дроля у меня.
За Ивановича мама не ругала никогда;
Полюбила Николаевича — воли не дала.
Никогда не расцветёт голубым рябинушка;
Никогда не подойдёт без уваженья милушка.
У меня подружка Маня, Маня всё и на уме;
Я кому скажу про милова, как Маня не тебе.
Милая подруженькя, удружи разочек, Я куплю, а ты отшей дролечке платочек.
Я из белова платочка эти буквы выпорю;
На словах не понимает, так на песнех выпою.
Купи, маменька, на платье, постарайся кумачу;
Как у дролечки рубашечка одинакова хочу.
Меня дроля провожал, баян положил на землю. “По тебе, моя хорошая, приеду на зиму”.
Там-там позади ласточка летала; Пятый годик дроля ходит — маменька не знала.
Хорошо, игрок, играешь, да не как мой дорогой;
Мой-то дроля заиграет — сердце колит, как иглой.
С горы на гору иду, колечке на воду кладу;
Колечке тонит, говорит, о ком сердячушко болит.
Моя прялка именная в посиденочке одна;
Выбирай, мой дорогой, по прялочке, по именной.
Ты играй, играй, тальяночка, тебе надо играть;
Куда назначена дороженька, её не миновать.
У меня, у девушки, на уме дуратство;
Был бы роёк, да хорош — ни к чему богатство.
Я люблю и уважаю дролину семеюшку;
Меня и дома не ругают, не бесчестят девушку.
Дроля женится — отделится, чего дадут паю? Дадут улицу широкую, да место на краю.
Я не мажусь, не белюсь, за богатым не гонюсь, Выбираю только я, чтоб в семеюшку люба.
Страдания
Мы сидели с дролей парой, быв маленько выпивши;
Я его словам поверила, жалеет от души.
Дорогая ягодиночка, не стой передо мной;
Захватило ретивое, не отлить будет водой.
Голубая лента бантом — ты зачем развязывал? Я тебя любила тайно — ты зачем рассказывал?
Ты играй — я буду слушать, говорят, любовь нарушат. Не нарушат, милая, будешь во век моя.
Подговаривал дружиться дорогой милёночек;
У тебя и без меня не сосчитаешь дролечек.
Дроля сердится на брата, из-за брата — на меня;
Чем же я-то виновата, не учила брата я.
Что хотите — говорите, всё равно он уезжал;
На ремне большая цепочкя, до дому провожал.
Купи, маменька, на платье без единова цветка;
Любить буду, не забуду безотецкова сынка.
Дроля вырвал носовок, сказал, что подарила;
Мне не дорог носовок — подружка укорила.
Все подружки нарядились, я не уревеласё — В сироте девушка живу, всево напринималасё.
Кто любови не опознает, тот счастливой человек;
Кто любовь рано опознает — не живать в покое век.
Заперите мою думушку двенадцати ключами;
Не даёт мне ретивое спокою по ночам.
На родную свою мать век прообижаюся — Не за любова выдаёт, смерти дожидаюся.
Всё сказали — без мамашеньки какая волюшка;
Каждый день поодинова поплачу девушка.
Я по кладбищу ходила, все по розовым цветам — Искала тятину могилу со горючим со слезам.
Заиграв дроля в гармонику, а я сказала: “Ох! Ты чево, дроля, выигрывав — разлуку ли любовь?”
Разлука
Задушевная подруженька, ты, милая, потом, Ты почаще видишь милова, так сказывай поклон.
Погляжу я в ту сторонушку — сердячушко замрёт;
Позастыл следочик милова, проведать не идёт.
Не придёт и не проведает молоденький парнёк — Задержала ночка тёмная, зелёненький лесок.
Где мы с миленьким стояли, тут не выростит трава;
Где мы слезы проливали, тут засохнут дерева.
Запевай, подружка, песню самую начальную — Не могу развеселить головушку печальную.
Задушевная подружка, тяжело моей груди — Дроли милова не вижу на гуляночке нигде.
В поле-то осталося овса нежатова;
Сегодня девушка пойду одна, без провожатого.
Дроля в Вологде живёт, кирпично-масляный завод. На углу стоит аптека, никто замуж не берёт.
Пойдём, милая подружка, слушать песни соловья;
Соловей поёт к разлуке, не стерпеть — заплачу я.
Посмотрю на дролин дом, слезы катятся градом;
Он стоит, как сиротиночка, и дроли нету в нём.
Наклонилась, извилась над рекой рябинушка;
Мне не каждый вечер весело — далёко милушка.
Я на дальную сторонку весть послала к милому — Не припало моё сердце здесь не ко единому.
Ты не жди, подружка, осени, не жди и зимушки;
Пришла холодная зима — оставила без милушки.
Я по бережку ходила, всё глядела в глубину;
Если с дролечкей разлука — в этой речке потону.
Пойду, выйду на крылечке, посмотрю, какая даль;
Ветры буйные сказали: “Не придёт, не ожидай.”
Лучше я бы молодёшенькя по морюшку плыла, Злые волны рассекала, при разлуке не была.
Закатилось солнце ясное за лес, за зеленой;
С ягодиночкёй не гуливать ни летом, ни зимой.
Измена
Белосизый голубочик позапутался в траве;
Хороши милова речи, да обманчивы оне.
Ты играй — я буду петь, во мне душа будет болеть;
Болит сердце и душа — любовь не очень хороша.
Вересовой кустик новой вырос на долинушке;
Так и знала, что нахают дорогому милушке.
Поиграй повеселее, дроля, ягодиночкя;
Отойдёт от ретивова горя половиночкя.
Я подумала про дролю, в думе прослезиласё, Как бы знала, что изменит, эдак не влюбиласё.
Не придёт сегодня вечером, так вовсе откажу;
Он в чужой деревне шляется, а я одна сижу.
Дорогая ягодиночка, тебя накажет Бог, Он за то тебя накажет, за неверную любовь.
Не ищите меня дома, а ищите в морюшке — За несчастную любовь буду лежать на донышке.
Задушевная подружка, не вздыхай-ко тяжело;
Я поверю, жавко дролечку, забыть надо ево.
Заведите на Успеньев день калоши, да платок;
Я ещё вам поработаю, родители, годок.
Не хотела расставаться, да и то рассталася, Середи широкой улицы одна осталася.
Мы с игровенким расстались, разошлись по сторонам. Он пошёл, а я заплакала—легко ли было нам?
Дорогому за измену цветик розу подала;
Эта роза означает: любовь тайная была.
Задушевная подруженькя, не вынести обидушки такой Во вторую категорию поставил дорогой.
Не меня дроля оставил, я ево оставила;
Во вторую категорию я ево поставила.
Дроля в венскую играет, это мне не парочкя;
Меня больше завлекает русская тальяночкя.
По баяну речи пела, выговаривала: “Ой! Ой, сделаю изменушку тебе, мой дорогой.”
Я любила — не грубила, сам ты, дролечкя, отстал;
Я второва полюбила—ты опять гоняться стал.
Я любила — не грубила и тепере не грублю;
Задушевная подружка, Александрова люблю.
Давай, дроля, расставаться, я и тем довольная;
У меня сердце горячее — любовь холодная.
Два баяна заиграли за зелёным лесиком;
Поздравляю, милой, вас с новым интересиком.
Посиди-ка со мной рядом, у тя рыло с поднарядом;
Аккуратненький носок из двадцати пяти досок.
У кого дроля какой, у меня ремеслянной;
Заказала шить ботинки — сшил бурак берестяной.
Шила милому кисет — вышла рукавица. Меня милой похвалил: “Ай, да мастерица!”
Замечательные песенки без дролечки пою;
Поведайте, посторонние, пожалуйста, ему.
У меня дроля Иван кудреватый, как баран;
Посмотрите, девки-матушки, покажется ли вам?
Это кто такой играет, это чей такой игрок? Отрубить бы ему рученьки да бросить под порог.
Всё ходил да обнимал в поле пень берёзовый;
Думал: “Милочка моя в кофте бело-розовой.”
Я люблю беловолосова, и мамашенькя велит;
Отобью от этой девушки, пускай она ревит.
Супостаточка та-та-та, разговаривать люта;
Не она ли наговаривает дроле на меня?
Супостаточка, с тобой сходила бы на перебой, Как бы не ты любила милова, так был бы дроля мой.
Не на месте кустик вырос, не на месте посажён;
После этой супостаточки хорош, да не нужен.
Меня дома-то ругали, ой как я бояласё;
То ли дроли не любила, да и то рассталасё.
Не кукуй, кукушка, в лесе на осине проклятой, Сядь на белую берёзку, покукуй над сиротой.
Погоди, родная матушка, не будет и меня — Не расцветут цветочки аленькие в доме у тебя.
Мне не надо дому новова, богатства вашева — Вы не знаете, родители, заклятья вашева.
Улетело моё счастьице на тройке — не догнать;
Буду век я обижаться на родную мать.
Мы с игровым расставались, горько плакали;
Мои слезы к дорогому на колени капали.
Не пойду сегодня в церковь: будут милова венчать;
Не стерпеть, чтобы не плакать — станут люди замечать.
Сероглазова женили по большой неволюшке— Стало некому работать во широком полюшке.
Служба солдатская
Говорила: “Не влюбляйся до савдатства, дорогой, Люди плачут, расстаются, то и нам будет с тобой.”
Я гуляю да и думаю, что дроля на ряду;
О Остаётся мало времени до призыву ему.
довезут дролю в солдаты, я-то бедная куда? На реке большая прорубь — суну голову туда.
Запевай, подружка, песню самую печальную— Проводила дорогова в путь-дорожку дальнюю.
У м(е)ня дроля новобранец, взяв волынку новую, На волыночке выигрывав разлуку скорую.
Я по бережку ходила, всё по самым крайчикам;
Подружка, трудно расставаться с этим новобранчиком.
Наша улица узка, нету поворота;
Обучают дролечку стрелять из пулемёта.
До чево дотосковала — став казаться дорогой;
В шинели серенькой с винтовочкой стоит передо мной.
Из солдат-то дроля пишет, пишет брату моему:
“До меня не выдовайте сероглазую мою.”
Как бы дроля не савдат, так от ево бы не отстать; За им бы погониласё, людей не постыдиласё.
Война германская
Не топите печку вересом, от вересу не жар;
Все наборы были даром, а теперешнова жаль.
Ты подумай-ко, подруженькя, про пошину вину;
Чево сроду не бывало — семь наборов на году.
Вся несчастная траковка лежит дома на пече;
Дроля, бедная головушка, винтовка на плече.
Угонили дорогова на войну, на дальнуё;
Меня, девушку, оставил на всю жизнь печальную.
Задушевная подружка, моё дело бедное, Гуляночка не завлекает — времечке военное.
Возьму я довгую соломину, поду окопы рыть. Не подсобит ли мне милой в поле боронить?
До чево война велика, много крови протечёт;
Наши дроли несчастливы — не попали на учёт.
Как бы не было Германии — не была бы и война;
Не угонили дорогова — не гуляла бы одна.
Много крови пролили около Германии — Всех хорошеньких робят прибили, да приранили.
Все сказали, что убили под Варшавой милушку;
Ево с товарищем положили в одну могилушку.
У меня дролю убили, не поставили креста;
Ево известная могила — человек четыреста.
Не судите, бабоньки, что в девушках осталасё;
Как бы не было войны, с дролей не рассталасё.
Война гражданская
Задушевная подружкя, кончив службу дорогой;
Не военное бы время, так выехав домой.
Говорят, что скоро кончитца Советская война;
Может, в живности вернётца ягодиночкя моя.
Не хотели расставаться — нас неволя развела;
Развела нас с ягодиночкёй Советская война.
В ту деревнюшку ходила — дролю видела в крыльце;
Он недавно из савдатов — нету красочки в лице.
У м(е)ня дроля дезертиром от войны скрываетца;
По наказу не идёт — отряду дожидаетца.
У м(е)ня дроля дезертиром, дезертирочкя и я;
Если дролю расстреляют— расстреляйте и меня.
Полюбила дезертира — с дезертиром горюшко;
Красна Армия в деревню — дезертиры в полюшко.
Платье белое на мне — ото всех отметушка;
С дезертиром занялась молоденькая девушка.
У м(е)ня сердце болит, так и разрывается;
У м(е)ня дроля дезертиром от войны скрывается.
Комитеты, комитеты, комитеты бедноты;
“За дезертирами приехали?” — Сказывайте вы.
У м(е)ня дроля дезертиром — поймали, повели;
Машот беленьким платочкём: “Дорогая, не реви.”
Я скажу тебе, игровенькёй, скажу, не осердись, С дезертиром на гуляночке поменьше находись.
Дезертиров из деревни коммунисты так и прут;
Скоро этим коммунистам наши голову сшибут.
Купили Ленину верёвочку, а Троцкому — аркан;
Вы гуляйте, дезертиры, ничего не будет вам.
На осине, на вершине, коммунист качается;
Дезертиры Богу молятся — война кончается.
Я на бочке сижу, а под бочкой мышка;
Комиссаров всех долой, коммунистам крышка.
Я под бочкой сижу, а на бочке крышка;
Скоро белые придут — коммунистам крышка.
Записался в коммунисты — красный бантик на груди, Если право переменится — повесят на ели.
Власть пролетарская
Комитеты, комитеты. Русская республика;
Накопили много дел — голодает публика.
Сидит Ленин на диване, и глаза наискосок;
До чего довоевали — нету соли на кусок.
Ленин Троцкого спросил: “Много ль хлеба напросил?” Троцкий Ленину в ответ: “Ничего в пестерке нет.”
Комиссар сидит на стуле, пишет мельнику приказ:
По четыре фунта с пуда — это Ленину на квас.
Записались в коммунисты — партию большевиков;
Разъезжают по России, грабят бедных мужиков.
Сидит милый на крыльце с революцией в лице;
Прокламацию читает — ничего не понимает.
Говорила дорогому: в коммунисты не пишись, Если право переменится, худая будет жизнь.
Говорила дорогому, говорила сколько раз:
В коммунисты не записывайся, сменят эту власть.
В коммунисты записался, красна лента на груди, Если право переменится — повесят на столбы.
До чего довоевали коммунисты-дураки — Нет ни хлеба, нет ни соли, нет ни белыя муки.
Едет Троцкий на телеге, а телега на боку;
—Ты куда, плешивый, едешь?
— Реквизировать муку.
Сидит Ленин на лугу, гложет конскую ногу;
Фу! Какая гадина, советская говядина.
Вся Россия торжествует: Ленин колобом торгует, Троцкий воблу продаёт, Зиновьев соли не даёт.
Сидит Ленин на заборе, держит серп и молоток;
Троцкий трутом у забора высекает огонёк.
“Дай-ко, тётушка, холстинки,
— просит Троцкий-коммунист, —
У товарища, у Ленина штаны изорвались.”
Коммунисты исчесались, стали веников просить;
На народ налог наложили: по десять пар носить.
От Новленского до Вологды протянут телефон;
На товарища, на Ленина надели балахон.
Сидит Ленин на берёзе, Троцкий выше, на ели;
Вы зачем же, хулиганы, нам коммуну завели?
Висит Ленин на берёзе, а Зиновьев на ели;
Вы какой же чёрт, товарищи, коммуну развели?
У стола четыре ножки, у лоханки только три;
Ленин, Троцкий и Зиновьев всю Россию продали.
Сапоги у м(е)ня худые, это Ленин подарил;
При царе, при Николае в лакированных ходил.
При царе, при Николае в лакированных ходил, А теперь хожу в опорках, видно, Ленин износил.
Николай был дурачок — ели булки в пятачок;
Власть Советская умна — наелись всякого дрянья.
При царе-то Николашке ели белые олашки;
Как стал Ленин управлять — не стали чёрного давать.
При царе-то Николашке ели белые олашки, А теперь большевики — нет ни хлеба, ни муки.
При царе, при Николашке ели белые олашки, А Советов дождались — и соломы нажрались.
Мы довжны идти учиться по завету Ильича;
Брось безграмотность, Россия, не смотри на богача.
И снова любовь…
У м(е)ня дроля комсомолец, я так беспартийная, Потому наша любовь такая канительная.
У кого милашки нету, объявляйте висповком;
В исповкоме разберут, у ково две, так отберут.
Соловей в саду поёт, хорошенькая птичка;
Мой милёнок — большевик, а я-то — меньшевичка.
С неба звёздочка упала, с высоты на самый низ;
Раньше был милёнок попросту, тепере коммунист.
Нынче новые права, не надо и венчаться — В Комитете за столом в книге расписаться.
У кого игровы нет — заявляйте в Комитет;
В Комитете разберут — по игровому дадут.
Не ношу браслет и колец, я дивчёночкя не та;
У м(е)ня дроля комсомолец, хулиганам не чета.
Полюбила комсомольца, скоро охватиласё — Все иконы изрубила, Богу не молиласё.
Скоро ягоды поспеют — черная смородина;
Коммуниста полюбила — до свиданья, родина.
QQQ
СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД
деревни Вохтога Раменской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии
Присмотревшись к девице и находя её вполне подходящей для себя партией, парень начинает звать ея замуж.
Обыкновенно это происходит на зимних посиденках у “столба”, т.е. в уединённом уголочке избы. Сначала он зовёт её “самокруткой”, т.е. без разрешения родителей. Но девица, если уверена, что парень её возьмёт, начинает упрямиться и зовёт свататься “чесью”. Парень, боясь оскандалиться, просит у неё заклад (т.к. с закладом отказать нельзя). На что девица, хотя иногда и неохотно, но соглашается. Отдавая в заклад какую-нибудь довольно значительную часть своего наряда без разрешения родителей, девица рискует всем: и своим добрым именем, и отданным закладом, —т.к. всегда может случиться, что парень не отдаёт заклада. Но если девица нравится или, иначе сказать, “по мысле”, парень посылает сваху в дом невесты.
Свахой может быть старшая сестра жениха, тётка и, если нет родни, хорошо знакомая с отцом жениха баба. Происходит это обыкновенно в ночное время. Придя в дом невесты, сваты, как обычно называют их одним словом, садятся на лавку вдоль половиц и начинают: “Вот у нас есть жених, а у вас — невеста, нельзя ли нам породниться?” Если родители находятжениха вполне подходящим, то, конечно, после долгих разговоров соглашаются. Если считают жениха ниже себя, то начинают разными отговорами упрямиться, чаще всего ссылаясь на молодость невесты. Видя, что родители невесты плохо сдаются, пришедшие говорят о закладе, данном невестою. Тогда, чтобы не оскандалить дочку, родители соглашаются, предварительно заручившись согласием самой невесты. (Всё это сватовство происходит в её отсутствие). Сразу же зовут жениха с матерью, выходит принарядившаяся невеста, колотят по рукам, молятся Богу. Предварительно сговориваются о приданом, которое занимает видное место в сватовстве. (Часто из-за той или иной вещи, которую хочется получить жениху и не хочется отдавать родителям невесты, свадьба расстраивается). На столе сразу появляется водка, чай — и все пойдёт на лад. Все присутствующие напиваются и только к утру уходят домой, приглашая к себе родню невесты, иначе говорят:
“Приезжайте пропивать невесту.” Дня через два-три едут самые близкие родные невесты в дом жениха. И тут уже начинается самое настоящее пропивание, которое длится сутки-полторы.
Если жениха знают мало, (например, его семейное положение) за дальностью расстояния, то осматривают его гуменник, амбар и т.д.
Тут же уговариваются о дарах, которые должна дарить невеста в
свадьбу, о дне свадьбы, когда съездить в исполком регистрироваться и к священнику.
Разъехавшись, начинают готовиться к свадьбе, заготовляя главным образом самогон. Невеста шьёт приданое, часто ей помогают подруги. В это время невеста, “сговорёнка”, не должна выходить на улицу и, вообще, из дому. До свадьбы жених все вечера проводит у невесты и если он не из этой деревни, то часто ночует у новой родни. Держится невеста как с посторонним, разговоры ведутся чисто деловые.
Накануне свадьбы устраивается девичник. Невеста, с утра принарядившись, садится на лавку под задним окошком, обыкновенно против печи. Приходят подруги, окружают невесту. Специальных причётчиц нет. Каждая девушка из подруг невесты долгим причетом должна помогать невесте, независимо оттого, кого этот причет и кому причитает. Невеста обыкновенно не смогает причитать сама, т.к. она очень сильно плачет.
Причитают:
Извините-ко, подруженьки, Извините-ко, голубушки, Вы меня да молодёшенькю, Вы меня да зеленёшенькю, Что не вышла, вас не стритила На широкой белой улице, На мосту да на липовом, На крылечюшке на крашоном, На частой, на мевкой лисёнке, Не растворила вам, подруженьки, Широкие двери, на ляту Не подхватила вас, подруженьки, Я под праву рученькю. Не посадила вас, подруженьки, На почётное мистечкё, На брусясчату лавочкю Со мной горя погоревать И кручини сердцу сбавить. Погляжу я молодёшенькя, Погляжу я зеленёшенькя На своих на подруженек, Что сидят мои голубушки, Как лебёдушки белые, Веселым-веселёшеньки, Я одна сижу во горюшке, Что во горе, во кручине, Во тоске-то непомерной.
Около 2-х часов дня приезжает жених со свахой. Отворяет двери сваха, жених входит за ней, девицы, увидев жениха, начинают плакать:
Не стрелой да серце стрылило,
Не огнём лицо опалило,
Не серпом руки подрезало
У меня у молодёшеньки,
У меня у зеленёшеньки. Обращаясь к подругам:
Попрошу я вас, подруженьки,
Попрошу я вас, голубушки, Вы стеной да белокаменной
Не пропускайте-ко, подруженьки,
Вы ни свата, ни свахоньки,
Ни дородня добра молодца.
Вы ко мне молодёшеньке,
Вы ко мне зеленёшеньке.
Встают подруги с мест, пропускают сваху к невесте с подарками. Является белый пирог на тарелке, завёрнутый в скатёрку, невеста целует сваху и отдаривает полотенцем. Когда очередь доходит до жениха, девицы его не пускают к невесте, просят денег за дорожку. Он рядится с ними очень долго и, наконец, сговариваются: жених даёт от 80 к. до 1р.50 к., по состоянию. Жених подходит к невесте и говорит:
“Матрёна Ивановна, слизь с лавочки, прими подарочки, сама себя не
труди и нас не стыди.”
Невеста не встаёт, он говорит это три раза, после третьего раза она встаёт, берёт от жениха подарки, целует его и отдаривает носовым платком и хорошим полотенцем. Подарками жениха являются гребёнка, кусок туалетого мыла, зеркало и пряники, которыми невеста угощает
подруг. Невеста причитает сначала:
Не спасибо вам, подруженьки, Не спасибо вам, голубушки, Пропустили к молодёшеньке, Пропустили зеленёшеньке Вы дородня добра молодца. Не подарочки я приняла, Приняла я молодёшенька, Приняла я зеленёшенька Себе грозу великую Со чуженя дальни стороны От чужого добра молодца. Девицы уходят, она провожает их, причитая: Посидите-ко, подруженьки, Посидите-ко, голубушки, У меня у молодёшеньки, У меня у зеленёшеньки В остальные, да в последние.
Девицы уходят. Жених и сваха пьют чай, невеста, принарядившись, тоже к ним выходит. После чая жених и сваха уезжают и берут с собой из дому невесты свата. Сват бывает из близких родных невесты, брат её или зять.
День свадьбы начинается тем, что мама будит ещё в постели невесту, причитая:
Уж ты стань, сердечно дитятко,
Со постелюшки, со мягкия
В остальныя да в последние
Во своей дивьей красоте,
Дивьев волюшке хорошей.
Невеста встаёт, одевает бабий наряд, а именно: сарафан, рубашку, плагок, пояс, заплетает косу. Опять садится под заднее окошко, так же приходят подруги, сначала причитают то же, что и в девичник. Мать-крестная берёт большую шаль и покрывает невесту вместе с подругами. Невеста причитает:
Не покрывай-ко,
Божатуш ка-крестная матушка,
На роду да меня впервые,
На веку да в последные.
Я сижу да призадумалась,
Чужих басенок заслушалась.
Хорошо да басни слушать
Не в топерешное времечке,
Не в топерешной-от часичек.
Мне недолго жить-красоваться
Во своей дивьей в дивней волюшке,
В дивьей воле хорошей.
У своех да у родителей,
У своех да у кормилицей.
У кормилеца у батюшка,
У родительницы матушки.
Мне не годичек годовати, Мне не летечкё работати,
Не недилюшку в гостях гостить,
Не другую под окном сидить.
Мне не ноченькю ночевати.
Один часичек часовати,
Да и то всё протосковати.
Обращаясь к матери:
Погляжу я молодёшенькя,
Погляжу я зеленёшенька
К печке-то кирпичиной,
Ко стовбу да горемичиному,
Тут стоит родима матушка,
Она поджала бели рученьки
К своему ретиву сердцу
От моего горя-кручины
И тоски непомерной.
Не спасибо вам, родители,
Не спасибо вам, кормилицы,
Засадили молодёшенькю,
Засадили зеленёшенькю
Вы во горе да во кручину,
Во тоску да непомерную.
Уж вы не дали, родители,
Уж вы не дали, кормилицы,
Вы досыта нагулятися
И с годами посверстатися,
С умом-разумом собратися.
Видно, много надогрубила,
Видно, много надосадила.
Досажала молодёшенькя,
Досажала зеленёшенькя
Не с ума, да не с разума,
Не с великия выдумке.
Мне ставать молодёшеньке,
Мне ставать зеленёшеньке
Со почетного мистечка,
Со брусясчаты лавочки
На свои скоры ноженьки.
Мне идти молодёшеньке,
Мне идти зеленёшеньке,
Что к кормилецу батюшке
И родительнице матушке.
Вы не гнитесь, половочки,
Не гнитесь, перекладинки,
Что не я иду тяжела тяжело.
У молодёшеньки что моё горе-кручина
И тоска непомерная.
Погляди, кормилец батюшка,
Погляди, родима матушка.
Не берёза ли качается,
Что твоё сердечно дитятко
У тебя в ногах валяется.
Попрошу я молодёшенькя,
Попрошу зеленёшенькя
Я тебя, кормилец батюшка,
И родительница матушка:
Не забудьте, родители,
Не забудьте, кормилецы,
Вы меня да молодешенькю,
Вы меня да зеленёшенькю
На чужой, на дальней стороне,
У чужих да у родителей,
У чужих да у кормилецей,
У дородня добра молодца.
Во время этого причета подруги водят невесту сначала к отцу, потом к матери, и она по очереди начинает просить старшую замужнюю сестру такими словами:
Ты послушай-ко, мила сестра,.
Ты послушай-ко, голубушка,
(имя и отчество),
Я об чём буду кручиться,
Понизешенькю кланяться
Ниже пояса шелкового
До полу да до тесового,
До перекладику кленового.
Подступися-ко, мила сестра,
Подступися-ко, голубушка,
Ты ко мне молодёшеньке,
Ты ко мне зеленёшеньке,
Расскажи, моя мила сестра,
Расскажи, моя голубушка,
Про чужую дальну сторону.
Уж ты как да приступилася,
Уж ты как да примостилася
Ко чужим-то родителям,
Ко чужому добру молодцу,
Ко чужой дальней стороне.
Сестра садится, закрывается покрывалом и причитает:
Ты послушай-ко, мила сестра,
Ты послушая-ко, голубушка,
Уж я что я буду сказывать,
Уж я что буду наказывать
Про чужую дальну сторону,
Про чужих-то родителей,
Про чужого добра молодца.
Не ровен да в лесе лес ростёт,
Не ровне да дальняя сторона,
Не ровны чужеи родители,
Не ровен добрый молодец.
Ты живи, моя голубушка, На чужой, на дальней стороне. Ты ходи не отступаючи, Говори не забываючи. На чужой, на дальней стороне Два поля горя насияны. Все слезами они поливаны И печалью огорожены. Нападёт, моя мила сестра, На тебя да горе-кручина И тоска да непомерная. Ты возьми, моя мила сестра, Коромыслицо дубовое, Уж ты видерки кленовыя, Ты сходи, моя мила сестра, За водой на ричкю быструю. Ты положь, моя мила сестра,
Ты свое да горе-кручину, Быстра речка не доказчица, Бережка да не доносчики.
Замужняя сестра уходит, на её место садится сестра-девушка, если нет, то ближайшая подруга.
Ты послушай-ко, мила сестра, Ты послушай-ко, голубушка, Уж я что я буду сказывать, Уж я что я буду наказывать. Ты возьми, моя мила сестра, Ты возьми, моя голубушка, Ты мою дивью красоту, Дивью волю хорошую. Ты снеси, моя мила сестра, Во леса, во дремучие. Ты положь, моя мила сестра, Под березку кудрявую, (Что придут люди добрые), Что придёт весна красная, Что пойдут люди добрые, Топорами они со вострыми, Подсекут дивью красоту, Дивью волю хорошую. Тут не место не мистечкё, Что моей дивьей красоте, Дивьей воле хорошей. Ты снеси, моя мила сестра,
Во луга во широкие,
Во траву во шелковую,
Что придёт лето тёплое,
Что пойдут люди добрые,
Со косами оне со вострыми,
Подкосят дивью красоту,
Дивью волю хорошую.
Тут не место, не мистечкё,
Что моей дивьей красоте,
Дивьей воле хорошей.
Ты возьми, моя мила сестра,
Ты мою дивью красоту,
Ты снеси, моя мила сестра,
По пути да по дороженьке,
Что ко погосту церковному
И ко звону колокольному.
Ты положь, моя мила сестра,
Ты положь, моя голубушка,
Ты мою дивью красоту
За престол Богородицы.
Тут ей место, ей мистечко,
Что моей дивьей красоте.
Она честью поношена,
С благодарью положена.
Уж я как да не подумаю,
Уж я как да не посмекаю
Я своим глупым разумом
Во своей дивьей красоте,
Дивьей воле хорошей. Мне недовго жить-красоваться
Во своей дивьей красоте,
Мне не ноченькя ночевати,
Одни часичек часовати,
Да и то все протосковати.
Знать, приходят мне ростанюшки,
Мне ростанюшки скорые,
Уж мне скорые, тяжелые.
Вскоре после этого приезжает жених с поездом. Невеста причитает тот же причет, что и в девичник, “Не стрелой да сердце стрылило”. Первый входит сват и говорит: “Батюшка, я пришёл с гостям, разреши мне их в дом ввести.” Отец отвечает: “Просим милости, — и спрашивает,— Хорошо ли было в гостях?” Сват расхваливает. Получив разрешение от отца, сват уходит за женихом, дружкой, большим братом, свахой и остальным поездом, причём сваха приходит с покровом, который
состоит из большой старинной ковровой шали, посреди которой нашит медный крест. Этим покровом сваха покрывает невесту. Дружка говорит: “Есть ли сваха кореновая?” Выходит невестина крестная. Он ей говорит: “Дайте знак, чтобы в поезде было дружку знать.” Сваха говорит:
“У нас невеста не сирота, не дадим без серебра.” Дружка даёт ей денег, а она ему навязывает длинное полотенце через правое плечо. Дружка снова говорит: “У нас в поезде есть чинишко — маленький братишка. Нельзя ли его отметить?” Сваха также просит денег, но большой брат, держа икону, с которой приехал из дома жениха, говорит: “У нас был покров — пять рублёв, шуба — десять рублёв, а животворящему кресту и цены нет.” Ему тоже дарят полотенце, но он уже не отдаривает. Когда это всё сделано, причём, нужно заметить, что невеста в это время очень сильно плачет, её одевают в шубу и шаль, дружка просит вывести её к столу. Подруги, 2 или 3, идут за ней и причитают:
Не бери-ко, сударь, милой брат,
Ты под правую рукю,
Ты меня молодёшенькю,
Ты меня зеленёшенькю,
Не веди-ко сударь, милой брат,
За столы да за дубовые,
За скатерочки браные,
За напиточки медовые
И ества за сахарные.
Брат её подводит к столу, и сам садится с ней рядом, дружка тоже сидит за столом, наливает брату стакан вина и просит выпить, но тот не пьёт и говорит: “ Моя сестра не сирота — не пропью без серебра. У моей сестрички золотая косичкя, кажная волосинка стоит по ковринке.” В это время невеста причитает:
Не пропей ты меня, сударь брат,
За стакан пива пьяного,
За другой вина зеленого.
Дружка рядится с братом, меньше пяти рублей невесту не пропивают. Когда совсем сговорятся, причём, они сговариваются очень долго, т.к. один просит уступить, а другой прибавить. Дружка покрывает стакан, если деньги бумажные, то деньгами, если — золотые, то кладёт их в стакан с вином; брат же это вино выпивает. Невеста причитает:
Не спасибо тебе, милой брат,
Уж ты пропил молодёшенькю,
Уж ты пропил зеленёшенькю
За стакан пива пьяного,
За другой вина зелёного.
Дружка в это время берёт жениха, который всё время стоял в народе у двери, выводит его к столу и сажает вместе с невестой, невеста плачет:
Ты садись-ко, сударь, добрый молодец,
Ты ко мне молодёшеньке,
Ты ко мне зеленёшеньке,
Ты не спесью, не с гордостью,
Ты со Божьей со милостью.
Попрошу я молодёшенькя,
Попрошу я зеленёшенькя
Я своех-то родителей,
Я своех да кормилецев,
Я кормилеца батюшка
И родительницу матушку
Я из уст благословеньеца,
Да из рук да Богородицы.
Благословите-ко, родители,
Вы меня да молодёшенькю
На роду да меня впервые,
На веку да во последние
На чужую дальну сторону
Ко чужим-то родителям,
Ко чужим-то кормилецам,
Ко чужому добру молодцу,
Чтоб от вас благословеннице
Повперёд меня ходило,
Мне дороженькю торило.
Жениха и невесту благословляют отец, мать и крестная невесты, садят их в сани. Невесту садят с крестной, которая везёт подвенечный наряд, крестная покрывает её одеялом из лоскутков, и едут в церковь.
Невестина лошадь едет самая последняя, но первый едет жених с большим братом, последний — с иконой. Как только уедут в церковь, отец невесты едете коробами невесты—её приданым, на новую родину. В то время, как едут в церковь, сват начинает молиться, бросает шапку, останавливает лошадь, дружка должен усмирять свата вином. Случается, что версты 4 до церкви едут не один час. У свата порываются, умысленно конечно, завёртки—верёвки, которыми привязаны оглобли к саням. Невеста должна давать полотенце, чтобы привязать. При каждой новой затее свата, при каждой его остановке останавливается весь поезд. После совершенного обряда едут в дом жениха. В сенях, на мосту, их встречают родители жениха и благословляют хлебом и солью и иконой. Жених и невеста, не раздеваясь, садятся за стол, их все поздравляют с законным браком. После поздравления их дружка уводит на подклет, которым чаще всего является летняя горница. Там мать их кормит, чтобы уже за столом они не ели, а модничали, за что и получает от невесты полотенце. После этого садятся за стол. Гостей садят за стол по их родственному отношению к невесте. За первым столом сидят самые близкие. На почётном месте, в углу под иконами,
сидит отец, около него по правую сторону крестный жениха, потом жених и невеста и рядом с ней её крестная, и то нужно заметить, что невеста за красным столом в первом наряде сидит в летней шляпе. Гости пьют чай, во время которого приходят девицы и говорят: “Новобрачных нужно побелить.” Жених им даёт рубль денег на беленье. Вслед за ним приходят мужики и просят разрешения покачать гостей. Сначала качают хозяина с хозяйкой, потом свата и дружку, молодых новобрачных, невестина отца и потом всех гостей. Каждому из качающихся поют соответствующую по положению песню.
Дружке во время качания поют:
У нас друженькя фартовый,
На все руки он товковый,
На скамеечкю садится,
С мужичонком подилися,
Мужичёнки припотели,
Самогонки захотели. Новобрачным поют:
Новобрачные красивы
На скамейку рядом сили,
На скамеечкю садитесь,
Поплотнее обоймитесь,
Ура!
Собрав за качанье деньги, мужики уходят их пропивать. Являются снова девицы и поют величанье новобрачным:
Ой, здися кто в пиру хорошенькей,
Ой, здися кто в пиру пригоженькей,
Ой, что хорош у нас князь молодой,
Ой, что Иван Олексеевич
Ой, со своей со княгинею
Ой, со Матрёной Ивановной.
Ой, он сидит потихошенькю
Ой, говорит помалошенькю,
Ой, голова его расчёсана.
Ой, у него кудри в три ряда.
Ой, что на эту головушку
Ой, сторублёвую шапочкю
Ой, в 50 рублей шириночкю.
Ой, что во этой шириночке
Ой, золота казна завязанная
Ой, дарить девушек приказанная.
Эта песня поётся всем гостям. После песни делают из носового платка зайчика и бросают тому, кому пели песню. Гости в этого зайчика должны положить денег. Девицы уходят. Чай кончается. Гости пляшут.
Невеста переодевается в другой наряд. Жених и невеста в день свадьбы не пляшут, считая это грехом.
После этого начинается ужин, который состоит из целого ряда жарких сальников и лепёшек (сортов по 9). После этого ужина снова пьют чай, после которого дружка уводит укладывать молодых спать.
Утром их снова будит дружка. Гости не разъезжаются. Снова пьют чай, обедают и т.д. Приезжает зватой отец невесты (который уехал домой вечером в день свадьбы около часу дня). Когда при отце попьют чаю, дружка тащит сору-сена, худой веник-голик и просит невесту его связать. Невеста даёт полотенце, которое поступает в пользу дружке. Дружка связанным полотенцем веником заставляет мести пол невесту;
во время метения гости все кидают деньги, которые и поступают в пользу невесте. Какой-нибудь старичок дядюшка бросает целый мешок денег. Невеста, его подняв, ходит к родителям, спрашивая: “Батюшко кормилец, я избушечку мела, да находочку нашла, не ты ли потерял?” Отец и мать говорят: “Нет”. Она ходит кдругим гостям, но, обыкновенно, виновного не находит. Спрашивает: “Куда сор девать?” Родители многозначительно не велят сор из избы выносить. Снова пьют чай, сбирают, а зватой приглашает к себе в гости. Собравшись, родные жениха едут к невесте, а родители невесты разъезжаются по домам, кроме самых близких, которые едут помогать. Там одеваются и пьют чай, во время которого приходят девицы, подруги невесты. Невеста их приглашает со стаканом пива и рюмкой самогонки к столу и просит поздравить с законным браком. Девицы просят разрешения попеть.
Ой, ты какая изменница,
Ой, ты какая лицемерница,
Ой, ты, Матрёна Ивановна,
Ой, не хотела замуж идти,
Ой, собиралась в монастырь идти,
Ой, за собой трёх подруг вести,
Ой, уж как первую в монашенки,
Ой, а другую в игуменьи,
Ой, а сама себя во старицы.
Ой, отставала бела лебедь,
Ой, от стаду лебединого,
Ой, приставала бела лебедь,
Ой, ко стаду ко серым гусям,
Ой, начали гуси щипати,
Ой, начала лебедь кричати.
Ой, не щиплите, серы гуси,
Ой, не сама к вам залетала,
Ой, привезли молодёшенькю,
Ой, привезли зеленёшенькю,
Ой, меня кони-то добрые,
Ой, поезжане хорошие.
Потом также всем гостям: “Здися во пиру хорошенькой”, также, как и в дому жениха, получают деньги, также приходят качать мужики. Точно такой же ужин и чай, пируют до утра. На другой день гости все разъезжаются, кроме жениха и невесты, которые гостят неделю.
( Записано в 1924 году студенткой Вологодского педтехнику-ма Анной Алексеевной Афанасьевой со слов гражданки Александры Фёдоровны Хрупаловой 28 лет.)
QQQ
ПРИГОВОРЫ ДРУЖКИ НА СВАДЬБЕ Ведёрковской волости Грязовецкого уезда
День свадьбы. К дому невесты подъехал свадебный поезд, и дружка идёт в избу.
Открывая дверь, говорит:
— Скок через порог, едва ноги переволок. Господи Христе Сыне Божий, помилуй нас. Здравствуйте, сватушко, свахонька. Назначали ли вы на сегодняшний день брак?
— Назначали, — отвечает сват.
— Варили ли пироги, пекли ли щи?
— Варили.
— Мы приехали, гости, глодать кости. Мы ехали против солнышка, больно засохло в горлышке.
— Подайте воды.
— С воды чтобы не было вреды.
—А мне кабы дали стакан вина, так во мне много бы прибавилось ума. Подносят.
— Во имя Отца выпить стакан винца. Святого Духа — первый стакан не пью досуха.
Ему ещё наливают.
— Без Троицы и дом не строится. Ему ещё наливают.
—Дайте мне теперь плат, почему бы могли дружку люди знать. Ещё стоит у меня брат, и тому надо плат. II.
“Едет князь в чистом поле, в широком разделе, под частым звёздам, под тёмным облакам, под светлым месяцем, под красным солнышком. Велел челом ударить и молодой княгине поклон отправить и просить, нельзя ли пожаловать встречать.” Жениха встречают в дверях, дружка берёт его за руку и ведёт в избу. Тот, кто продаёт невесту, сидит с ней рядом, а невеста повязана шалью, сидит за столом на лавке. Продавец говорит: “Стою на полу и на ногах, торгую не куницами, не лисицами,
а красными девицами (загадывает дружке). У моей сестрицы по рублю косицы, русая коса — девичья краса, все вместе пожалуйте копеек двести.” Рядятся, и продавец, после того как согласится за известную сумму, говорит: “Дайте мне гуся с поля или утку с моря.” (С жениховой стороны подают пирог-“кулебяку”, так и с невестиной обе кладут на стол). “Дайте мне краше красного солнышка и свитлее светла мисяца, миляе отца и матери”, — подают с жениховой стороны икону к невестиной. “Дайте мне того, что в здешнем доме не родилось”, — продавец вылезает из-за стола; поцеловавши невесту, на его место садится жених, дружка подаёт руку невесты жениху.
(Записано в 1924 г. студентом Вологодского педтехникума Ф.Ф. Поздиным в Ведёрковской волости Грязовецкого уезда со слов старика.)
QQQ
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
БСЭ — Большая советская энциклопедия. ВГВ — Вологодские губернские ведомости. ВЕВ — Вологодские епархиальные ведомости. ВГИАХМЗ — Вологодский государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник.
ВОАНПИ — Вологодский областной архив новейшей политической истории.
ВОЙСК — Вологодское общество изучения истории Северного края.
ВОКМ — Вологодский областной краеведческий музей. ГАВО —. Государственный архив Вологодской области. ГБЛ — Государственная библиотека им. Ленина. РГАДА — Российский государственный архив древних
актов. МАМЮ — Московский архив министерства юстиции.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Васенина М.Г. ПЕРВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ГРЯЗОВЕЦКОМ РАЙОНЕ
Кузнецов А.В. ГРЯЗОВЕЦКИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
Соколова Л.Д. РОДОСЛОВИЕ СЕМЬИ БРЯНЧАНИНОВЫХ
ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
БРЯНЧАНИНОВЬЩПубликация Л.Н. Мясниковой)
Фурашова Н.В. ОБЗОР ФОНДОВ ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО УЕЗДА
Кожевникова Н.А. ИЗ ИСТОРИИ ГРЯЗОВЕЦКОЙ ЧК
ЗАКРЫТИЕ МОНАСТЫРЕЙ В ГРЯЗОВЕЦКОМ УЕЗДЕ (Публикация И.А. Кожевниковой)
ПУБЛИКАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ (Публикации Ю.С. Васильева)
СОТНАЯ С ВОЛОГОДСКОЙ ПИСЦОВОЙ КНИГИ
1628 — 1630 ГГ.
ОТПИСНАЯ КНИГА ВВЕДЕНСКОГО
КОРНИЛЬЕВО-КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ 1657 Г.
ЖИТИЕ КОРНИЛИЯ КОМЕЛЬСКОГО
БИБЛИОГРАФИЯ
ГРЯЗОВЕЦКИЙ УЕЗД В ЗАПИСЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
И ТРУДАХ ИСТОРИКОВ КОНЦА XVIII—XIX ВВ.
МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРУ ГРЯЗОВЕЦКОГО УЕЗДА (Публикации А.В. Быкова)
https://vk.com/wall-9368277_33815
https://dzen.ru/a/ZlramOJeCzU–qv1?from_site=mail
Фотографии на сайте размещены в научных и популяризаторских целях, без цели извлечения прибыли
(просто так – только кошки .. да и то не просто так , а от большого желания). это все ммда.
не отчет .. прибыль от сайта по заходам на Танцевальный магазин платьев и ателье .. небольшая но есть
на первой странице можно сделать перевод, в том числе из-за границы.
